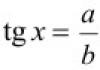Кант что значит ориентироваться в мышлении анализ. Иммануил Кант. «Что значит ориентироваться в мышлении?» (1790)
Что значит ориентироваться в мышлении. 1786.
Кант И. Сочинения в 8-ми т. (под общей ред. проф. А.В. Гулыги). - М.: Чоро, 1994. - Т.8, стр. 86 - 105.
Как бы далеко мы ни заходили в своих понятиях и как бы мы при этом ни абстрагировались от чувственности, им все же присущи всегда образные представления, непосредственное назначение которых состоит в том, чтобы сделать их, невыводимых обыкновенно из опыта, применимыми к опыту. Да и как иначе мы можем придать им смысл и значение, если не подводить под них какое-либо созерцание (которое всегда будет в конечном счете примером, взятым из возможного опыта)? Если же из этого конкретного умственного действия удалить теперь примесь образного, первоначально как случайного чувственного восприятия, а затем и как чистого чувственного созерцания вообще, то остается чистое рассудочное понятие, объем которого теперь расширен и содержит правило мышления вообще. Таким путем возникла сама общая логика, а некоторые эвристические методы мышления, видимо, все еще скрыты от нас в опытном применении наших рассудка и разума, которые, если бы нам удалось осторожно извлечь их из него, могли бы обогатить философию определенными максимами, полезными даже для абстрактного мышления.
К такого рода максимам относится принцип, о котором покойный Мендельсон заявил определенно, насколько мне известно, только в своих последних сочинениях (Morgenstunden, S.165 - 166, и Briefe an Lessings Freunde, S.33-67), а именно максима необходимости ориентироваться в спекулятивном применении разума (которое он обычно считал способным в отношении познания сверхчувственных предметов на очень многое, вплоть до очевидности демонстрации) при помощи некоего руководящего средства, которое он называл то духом солидарности (Gemeinsinn) («Утренние часы»), то здравым разумом, то простым человеческим рассудком («Письма друзьям Лессинга»). Кто бы подумал, что это признание не только окажется столь пагубным для его выгодного мнения о мощи спекулятивного применения разума в делах теологии (что, на самом деле, было неизбежным), но и по причине двусмысленности его противопоставления способности обычного здравого разума спекуляции поставит этот самый разум в опасное положение служить обоснованию экзальтации и полному своему развенчанию? И все же это случилось в споре Мендельсона и Якоби, прежде всего благодаря заключениям остроумного автора «Результатов» , которые [заключения] нельзя назвать незначительными; впрочем, я не хочу никому из двоих приписывать намерение пустить в ход столь пагубный способ мышления, а рассматриваю последнее предприятие скорее как argumentum ad hominem, который имеет право служить самообороне, чтобы использовать слабые стороны противника ему в ущерб. Вместе с тем я покажу, что в действительности только разум, не мнимое таинственное чувство истины и не безмерное созерцание под именем веры, к которым традиция или откровение могут прививаться без согласия разума, а, как стойко и с оправданным рвением утверждал Мендельсон, только собственный чистый человеческий разум будет ориентировать себя. Это он находил нужным и расхваливал, хотя при этом упраздняется высокая претензия спекулятивной способности разума, прежде всего ею одной предлагаемое усмотрение (через демонстрацию), и ей, поскольку она спекулятивна, не должно позволяться ничего большего, чем дело очищения обычного понятия разума от противоречий и защита от ее собственных софистических нападок на максиму здравого разума.
Понятие самоориентации, расширенное и уточненное, позволит нам яснее представить максимы здравого разума в их применении к познанию сверхчувственных предметов.
Ориентироваться - значит в собственном смысле слова следующее: по данной части света (на четыре которых мы делим горизонт) найти остальные, например, восток. Если я вижу на небосводе солнце и знаю, что сейчас полдень, то я смогу найти юг, запад, север и восток. Для этого, однако, мне вполне достаточно чувства различия во мне самом как субъекте, а именно различия левой и правой рук. Я называю это чувством, потому что эти две стороны не имеют в созерцании какого-либо заметного внешнего отличия. Без этой способности описывать круг, не прибегая к каким-либо предметным различиям на нем, тем не менее правильно отличать направление движения слева направо от обратного, а тем самым и определять а priori различие в положении предметов, я не знал бы, следует ли мне искать запад справа или слева от южной точки и тем самым проводить полный круг через северную и восточную точки к южной. Итак, я ориентируюсь географически при всех объективных данных небосвода все же только с помощью субъективного основания различения. И если бы в течение одного дня все созвездия благодаря чуду, сохранив ту же самую форму и то же самое положение относительно друг друга, изменили бы свое направление так, что то, что находилось на востоке, оказалось бы теперь на западе, то в ближайшую звездную ночь ни один человеческий глаз не заметил бы ни малейшего изменения; даже астроном, если бы он принимал во внимание лишь то, что видит, а не то, что одновременно и чувствует, неизбежно был бы дезориентирован. Но на помощь ему приходит совершенно естественно заложенная природой и закрепленная длительным применением способность чувственного различения левой и правой рук, и он, обращая внимание лишь на Полярную звезду, не только обнаружит происшедшее изменение, но и сумеет вопреки ему сориентироваться.
Это географическое понятие метода ориентирования я могу теперь расширить и разуметь под ним следующее: ориентацию в данном пространстве вообще, т.е. чисто математически. Для ориентировки в знакомой комнате в темноте мне достаточно дотронуться рукой хотя бы до одного предмета, местоположение которого я помню. В этом случае мне помогает, очевидно, не что иное, как способность определять положение предметов на субъективной основе различения, так как объекты, местоположение которых мне необходимо найти, мне совсем не видны. И если бы кто-либо в шутку переставил бы все предметы, сохранив их прежний порядок, так, что слева оказалось бы то, что ранее находилось справа, то я совершенно не смог бы ориентироваться в комнате, стены которой в остальном остались бы без изменения. Однако все же вскоре я буду ориентироваться благодаря одному лишь чувству различия двух своих сторон, левой и правой. То же самое произойдет со мной в случае, если я, оказавшись ночью на знакомых мне улицах, на которых я теперь не различаю ни одного дома, должен буду идти по ним и делать надлежащие повороты.
Наконец, я могу еще более расширить данное понятие так, что оно будет теперь состоять в способности ориентироваться не только в пространстве, т.е. математически, но и о мышлении вообще, т.е. логически. Можно по аналогии легко догадаться, что делом чистого разума будет управление своим применением в тех случаях, когда он, отталкиваясь от известных предметов (опыта), захочет перешагнуть все границы опыта и не найдет в созерцании ни одного объекта, а всего лишь пространство для них; в этом случае при определении своей собственной способности суждения он оказывается совершенно не в состоянии подводить свои суждения под какую-либо максиму, исходя из объективных оснований познания, а исключительно лишь на основе субъективного различения. Данное субъективное средство, выделяющееся в качестве остатка, есть не что иное, как чувство присущей разуму собственной потребности. Избежать заблуждения можно прежде всего тогда, когда не берешься судить там, где неизвестно столь много, сколько необходимо для определяющего суждения. Таким образом, незнание само по себе является причиной лишь ограниченности, но не заблуждения нашего познания. Но там, где решение вопроса о том, судить или не судить о чем-либо со всей определенностью, не столь произвольно, где необходимость суждения диктуется действительной потребностью и к тому же такой, которая присуща самому разуму как таковому, где недостаток знания ставит нам границы во всем том, что необходимо для получения суждения, там необходима максима, руководствуясь которой мы производим суждение, ибо разум должен быть однажды удовлетворен. Выше уже было оговорено, что в данном случае не может быть никакого объекта в созерцании и даже ничего сколько-нибудь подобного ему, т.е. того, с помощью чего мы могли бы представить предмет, соответствующий нашим расширенным понятиям, и обеспечить им тем самым их реальную возможность. И нам не остается ничего другого, как прежде всего хорошенько проверить то понятие, с помощью которого мы намерены выйти за пределы всякого возможного опыта, свободно ли оно от противоречий. Для этого мы должны, по меньшей мере, подвести отношение предмета к предметам опыта под чистые понятия рассудка, благодаря чему мы его, правда, не делаем еще чувственным, но мыслим все же нечто сверхчувственное, которое пригодно, по крайней мере, для использования его в опытном применении нашего разума. Без подобной предосторожности мы совершенно не в состоянии найти данному понятию применение, а грезили бы, вместо того чтобы мыслить.
Однако одним этим, а именно одним голым понятием, еще ничего не достигнуто в отношении существования этого предмета и его действительной связи с миром (совокупностью всех предметов возможного опыта). Но здесь вступает в силу право потребности разума как субъективного основания предпосылать или предполагать то, что ему не позволено знать, исходя из объективных оснований, следовательно, право ориентироваться в мышлении, в этом неизмеримом и покрытом для нас сплошным мраком пространстве сверхчувственного, только в силу своей собственной потребности.
Можно мыслить различное сверхчувственное (ведь предметы чувств не заполняют полностью всей сферы возможного), где разум, однако, не испытывает потребности распространиться на него и менее всего предполагает его существование. Разум находит в причинах мира, открывающихся чувствам (или сходных с теми, которые им открываются), и без того достаточно пищи, чтобы еще нуждаться в воздействии на него чистых духовных природных сущностей, принятие которых, скорее всего, отрицательно сказалось бы на его применении. И так как о законах, по которым могут действовать подобные сущности, мы ничего не знаем, а о законах предметов чувств знаем много или, по крайней мере, можем надеяться, что узнаем еще, то таким предположением применению разума будет нанесен, скорее, ущерб. Следовательно, играть подобными химерами или исследовать их - вовсе не потребность разума, а, скорее, простое, чреватое фантазией, праздное любопытство. Совсем иначе обстоит дело с понятием первого существа как высшего разума и одновременно как высшего блага. Ибо мало того, что наш разум уже испытывает потребность положить понятие неограниченного в основание всего ограниченного и вместе с этим всех других вещей; он идет дальше к предположению о его существовании, без которого разум не в состоянии дать удовлетворительного объяснения случайному бытию вещей в мире и менее всего целесообразности и порядку, встречающимся в достойной восхищения степени повсюду (в малом, потому что оно ближе к нам, но еще в больше степени в большом). Без предположения о разумном творце нельзя дать этому понятного объяснения, не впадая в сплошные нелепости. И хотя мы не можем доказать невозможность такой целесообразности без первой разумной причины (ведь в таком случае мы располагали бы достаточными объективными основаниями для этого утверждения и не нуждались бы в ссылке на субъективные), все же для принятия этой точки зрения при всех ее недостатках есть достаточно субъективного основания в том, что разум нуждается предполагать то, что ему понятно, дабы объяснить данное явление из него, так как все остальное, с чем он может связывать какое-либо понятие, не удовлетворяет эту потребность.
Потребность разума, однако, следует рассматривать двояко: во-первых, в ее теоретическом и, во-вторых, в ее практическом значении. Первое было приведено выше. Однако вполне ясно, что все это следует понимать условно, т.е. мы вынуждены принять существование Бога, если хотим судить о первопричинах всего случайного и прежде всего об упорядочении целей, действительно заложенных в мире. Но еще важнее потребность разума в практическом его применении, ибо она безусловна, и мы прибегаем к мысли о существовании Бога не только тогда, а когда хотим судить, но потому что должны судить. Поэтому чисто практическое применение разума заключается в предписании моральных законов. Но все они подводят к идее о высшем благе, которое возможно в мире, насколько оно возможно только с помощью свободы, - к нравственности. С другой стороны, они подводят также к тому, что идет не только от свободы человека, но и от природы, а именно к наибольшему блаженству, если оно только дано в той же пропорции, что и первое. Таким образом, разум нуждается принять такое зависимое высшее благо и ради этого высший разум как высшее независимое благо; не для того, чтобы вывести отсюда обязывающий авторитет моральных законов или побудительную причину их соблюдения (ведь последние не имели бы никакой моральной значимости, если бы их мотив был продиктован чем-либо другим, кроме закона, который уже сам по себе аподиктичен), а для того, чтобы придать понятию о высшем благе объективную реальность, т.е. не допустить, чтобы его, вместе со всей нравственностью в целом, принимали только за идеал, если нигде не существовало того, идея чего неразрывно связана с моральностью.
Это, следовательно, не познание, а ощущаемая разумом потребность, которая ориентировала Мендельсона (сам он этого не осознавал) в спекулятивном мышлении. Но так как это направляющее средство не представляет собой объективного принципа разума, принципа познания, а является всего лишь субъективным принципом (максимой) его употребления, обусловленного лишь его ограниченностью, является следствием потребности и устанавливает только для себя всю определяющую основу нашего суждения о бытии высшего существа, из которого только в случайном применении возможно ориентироваться в спекулятивных испытаниях того же самого предмета, то он [Мендельсон], конечно, совершил ошибку, приписав этой спекуляции способность самостоятельно решать все путем демонстрации. Необходимость в первом средстве [спекуляции] могла возникнуть лишь в том случае, если была полностью признана беспомощность второго [усмотрения разума], - вывод, к которому пришел бы в конце концов его проницательный ум, если бы вместе с долголетием судьба даровала ему и свойственную обычно юности способность легко видоизменять свой привычный образ мышления в соответствии с изменением состояния наук. Впрочем, за ним остается та заслуга, что он настаивал на том, чтобы поиски последнего пробного камня допустимости какого-либо суждения велись не где-либо, а исключительно только в самом разуме: он мог бы руководствоваться в выборе своих положений усмотрением или простой потребностью и максимой своей собственной полезности. Мендельсон назвал разум в его последнем применении обычным человеческим разумом, потому что перед взором последнего всегда стоит прежде всего его собственный интерес, хотя сбой с естественного пути уже должен был свершиться, чтобы забыть его и праздно выбирать себе понятия с точки зрения объективности просто с целью расширения своего значения и независимо от того, есть ли в этом необходимость или нет.
Но так как выражение «изречение здравого разума» в данном вопросе остается все еще двусмысленным и может быть понято либо, что ошибочно было принято и Мендельсоном, - как суждение разумного постижения, либо, так трактует, по-видимому, автор «Результатов», как суждение разумного вдохновения, то представляется необходимым дать этому источнику оценки другое название, и нет более подходящего для него, чем вера разума. Всякая вера, в том числе и историческая, хотя и должна быть разумной (ведь последним пробным камнем истины всегда является разум), но только вера разума не основывается ни на каких других данных, кроме тех, которые содержатся в самом чистом разуме. Любая вера является здесь субъективно достаточной, но объективно в сознании недостаточной инстанцией истины. Следовательно, она противопоставляется знанию. С другой стороны, если нечто полагается истинным из объективных, хотя и в сознании недостаточных оснований, т.е. просто мнится, то это мнение путем постепенного дополнения основаниями того же порядка все же может в конце концов превратиться в знание. И, напротив, если основания полагания истины в своем роде не являются объективно законными, то тогда вера никаким применением разума ни в коем случае не сможет стать знанием. Историческая вера, например, в смерть какого-либо великого человека, о которой сообщают письменные источники, может стать знанием, если местная власть сообщит о его погребении, завещании и т.д. Поэтому если то, что исторически принимается просто на основе показаний за истинное, т.е. во что верят, например, что на свете существует город Рим, что все же тот, кто не был там, может заявить: «Я знаю», а не только: «Я верю, что существует Рим», то это вполне совместимо. Напротив, чистая вера разума даже при наличии всех естественных данных и опыта не может никогда превратиться в знание, потому что основание для полагания истины в этом случае только субъективно, а именно является.лишь необходимой потребностью разума (и будет таковой до тех пор, пока мы остаемся людьми), потребностью лишь предполагать бытие высшего существа, а не демонстрировать его. Эта потребность разума в удовлетворяющем его теоретическом использовании не может быть не чем иным, как чистой гипотезой разума, т.е. мнением, достаточным для постижения истины из субъективных оснований, так как для объяснения данных следствий никакой другой причины, кроме этой, ожидать не приходится. А ведь разум ищет оснований для объяснения. И, напротив, вера разума, покоящаяся на потребности его практического применения, могла бы быть названа постулатом разума: не потому, что это был бы вывод, удовлетворяющий всем логическим требованиям достоверности, а потому, что эта инстанция истины (если только у человека все в порядке с моралью) по своей степени не уступает знанию, хотя по своему виду она совершенно отлична от него.
Итак, чистая вера разума есть путеводитель или компас, с помощью которого спекулятивный мыслитель, идя путями разума, может ориентироваться в сфере сверхчувственных предметов, а человек с обычным, но (морально) здоровым разумом может предначертать свой путь как в теоретическом, так и в практическом отношении, в полном соответствии со своим назначением. И именно эта вера разума должна быть положена в основу любой другой веры и даже более того - любого откровения.
Понятие Бога и сама уверенность в его бытии могут существовать исключительно лишь в разуме, исходить только от него и привходить в нас не с помощью вдохновения и не с помощью сообщения из уст лица, каким бы высоким авторитетом оно ни обладало. Случится мне созерцать нечто подобное, например, Бога, что, насколько я знаю, мне не может дать природа, то в этом случае понятие Бога должно служить критерием того, совпадает ли это явление со всем тем, что характерно для божества. Хотя я совершенно не представляю, как это возможно, чтобы какое-то явление хотя бы качественно могло изобразить то, что можно всегда только мыслить, но никогда - созерцать, все же мне ясно, по крайней мере, что я буду должен сверять это самое явление с понятием разума о Боге и через это судить не столько об адекватности его последнему, а сколько о том, не противоречит ли оно ему для того, чтобы я смог определить, представляет ли собой Бога то, что мне является, что воздействует на мое чувство извне или изнутри. Точно так же, если во всем том, в чем мне Бог непосредственно является, не было бы ничего, что противоречило бы его понятию, тем- не менее это явление, созерцание, непосредственное откровение или как бы мы еще его ни называли никогда не будет доказательством бытия существа, понятие о котором (когда оно не определено надежно и отсюда должно подвергаться вмешательству возможных иллюзий) требует бесконечности величий по сравнению со всеми творениями, и этому понятию не может быть адекватен никакой опыт или созерцание, следовательно, он никогда не сможет однозначно доказать бытие подобного существа. Таким образом, никто не может быть убежден в его существовании, в первую очередь, с помощью какого-либо созерцания. Вера разума должна предшествовать, и лишь тогда известные явления или откровения могли бы дать повод для исследования вопроса о том, вправе ли мы принимать за божество то, что говорит или представляется нам для того, чтобы затем подтвердить эту веру по усмотрению.
Итак, если у разума будет отниматься его законное право первого голоса в том, что касается таких сверхчувственных предметов, как Бог или будущее мира, то тем самым будут открыты ворота всякой экзальтации, суеверию и даже атеизму. И все же мне кажется, что в споре Якоби и Мендельсона все [связано] с этим разрушением, и я, право, не знаю, опирается ли это только на усмотрение разума и знания (путем мнимой силы спекуляции) или также даже на веру разума и затем на учреждение некоей другой веры, которую каждый может выбрать себе по своему усмотрению. Такой вывод напрашивается почти сам собой, когда рассматриваешь спинозовское понятие Бога как единственное совладающее со всеми основоположениями разума и, тем не менее, неприемлемое. Ибо хотя с верой разума хорошо согласуется допущение, что спекулятивный разум не в состоянии мыслить даже саму возможность такого существа, каким мы мыслим себе Бога, то совершенно несовместимо ни с какой верой и вообще ни с каким постижением истины бытия то, что разум, усматривая невозможность какого-либо предмета, может все же признавать его реальность, исходя из других источников.
Вы, мужи духа и широкого образа мыслей! Я преклоняюсь перед вашими талантами и уважаю ваше человеческое чувство. Но отдаете ли вы себе отчет в том, что делаете и куда могут завести ваши нападки на разума? Вы, без сомнения, хотите, чтобы свобода мысли осталась в неприкосновенности, так как без нее наступил бы конец свободному полету даже вашего гения. Давайте посмотрим, что неизбежно станет с этой свободой мысли, если возьмет верх то, за что вы принимаетесь.
Во-первых, свободе мысли противопоставлено гражданское принуждение. Хотя и утверждается, что властями может быть отнята свобода говорить или писать, но не свобода мыслить, но только сколько и насколько правильно мы мыслили бы, если бы не думали как бы сообща с теми, с кем обмениваемся своими мыслями! Итак, можно сказать, что та самая внешняя власть, которая лишает людей свободы сообщать свои мысли публично, отнимает у них вместе с тем и свободу мыслить - единственное сокровище, которое у нас остается перед лицом всех гражданских тягот и с помощью чего единственно можно еще найти выход из этого бедственного состояния.
Во-вторых, свобода мысли берется также в том значении, что ей противопоставляется принуждение в вопросах совести, а именно когда без внешнего насилия в делах религии одни граждане берут на себя роль опекунов над другими и вместо аргументов с помощью предписанных и сопровождаемых страхом перед опасностью собственного исследования символов веры стараются заблаговременным воздействием на умы запретить всякую проверку разума.
В-третьих, свобода в мышлении означает также подчинение разума лишь таким законам, которые он дает себе сам; противоположностью этому является максима внезаконного употребления разума (чтобы, как мнит себе гений, видеть дальше, чем в условиях ограничения законом). А следствием этого, естественно, будет следующее: если разум не хочет подчиняться законам, которые он дает сам себе, то он будет вынужден подчиниться законам, которые ему дают другие, так как без закона ничто, даже самая большая глупость, не может долго творить свое дело. Итак, неизбежным следствием объявленного внезакония мышления (освобождение от ограничений с помощью разума) будет следующее: свободе мыслить в конце концов будет нанесен ущерб и по вине не то чтобы несчастья, а настоящего высокомерия она будет в буквальном смысле слова утрачена.
Ход вещей при этом примерно следующий. Сначала гений будет очень доволен своим смелым полетом, потому что избавился от поводка, с помощью которого он обычно управлял разумом. Вскоре он своими безапелляционными решениями и большими обещаниями обворожит других, и создастся впечатление, будто он сам себя возвел на трон, который плохо украшал медлительный и тяжеловесный разум, хотя он все еще продолжает говорить от его лица. Принятие затем максимы недействительности в качестве высшей законодательной силы разума, мы, простые смертные, называем мечтательностью (экзальтацией), а те баловни благосклонной судьбы - озарением. Но так как вскоре среди них неизбежно возникает путаница мнений из-за того, что каждый будет следовать лишь своему вдохновению - ибо только разум может предписывать всем одинаковые законы, - то в конце концов из внутренних вдохновений возникнут оправданные внешними свидетельствами факты, а затем из традиций, установленных первоначально произвольно, - навязанные силой документы, т.е., одним словом, будет иметь место полное подчинение разума фактам, или суеверие, поскольку последнее позволяет все же придать себе форму закона, а тем самым и призвать себя к спокойствию.
Но так как человеческий разум все еще стремится к свободе, то, если только он разорвет когда-либо свои оковы, его первые шаги применения давно ставшей непривычной свободы должны выродиться в злоупотребление и дерзкую уверенность вне зависимости его способности от каких-либо ограничений, в убежденность в единоличном господстве спекулятивного разума, который решительно отвергает все, что не может быть оправдано объективными основаниями и догматической убедительностью. Максима независимости разума от своей собственной потребности (отречение от веры разума) называется безверием; не историческим безверием, поскольку его нельзя совершенно мыслить преднамеренным, способным, следовательно, отвечать за свои действия (потому что каждый, хочет он того или нет, должен верить факту, если он только достаточно подтвержден, точно так же, как и математическому доказательству), но неверием в разум - это такое жалкое состояние духа человеческого, которое сначала лишает моральные законы силы воздействий на душу, а со временем и их авторитета и порождает такой образ мышления, который называется свободомыслием, т.е. принципом, не признающим никакого долга. Вот тут и вмешиваются власти, чтобы не допустить беспорядка в самих гражданских делах. И так как наиболее расторопное и убедительное средство для них и есть самое лучшее, то они вообще ликвидируют свободу мышления и подвергнут ее наравне с другими занятиями государственной регламентации. Таким образом, свобода в мышлении, если она хочет действовать независимо от законов разума, разрушает в конце концов саму себя.
Вы, друзья рода человеческого и всего того, что для него свято! Вы можете принимать то, что кажется вам после тщательной и добросовестной проверки наиболее вероятным, будь то факты или разумные основания, только не лишайте разума того, что делает его самым высшим благом на земле, а именно права быть окончательным критерием истины! В противном случае вы сами окажетесь недостойны этой свободы, наверняка ее утратите и, более того, ввергнете в это несчастье других своих невинных соотечественников, образ мыслей которых обычно направлен на то, чтобы пользоваться своей свободой согласно закону, а тем самым и на благо всего мира!
Примечания:
Источник сканирования: Кант И. Сочинения в 8-ми т. (под общей ред. проф. А.В. Гулыги). - М.: Чоро, 1994. - Т.8, стр. 86 - 105.
Статья «Was heisst: sich im Denken orientieren?» впервые была опубликована в октябре 1786 г. в журнале «Berlinische Monatsschrift» (S.304-330). Статья была написана по просьбе редактора журнала И.Э. Бистера Канту высказать свою точку зрения относительно спора, возникшего между М. Мендельсоном и Ф.Г. Якоби по поводу путей постижения бытия Бога. Кант в своей статье, откликающейся в основном на книгу М. Мендельсона «Утренние часы» («Morgenstunden, oder Vorlesungen ueber das Dasein Gottes»), как и во всех своих предыдущих работах, принципиально отвергает спекулятивное использование человеческого разума (в том числе и для доказательства бытия Бога). Основная идея Канта заключается в том, что разум, имея априорные основания и сталкиваясь с непознанным и, по всей вероятности, от него не зависящим, должен сам вырабатывать критерии своего теоретического и практического применения (ред.).
Jacobi, Briefe Gber Lehre des Spinoza. Breslau, 1785. - Jacobi, Wider Mendelssohns Beschuldigung betreffend die Briefe liber die Lehre des Spinoza. Leipzig, 1786. - Die Resultate der Jacobischen und Mendelssohnschen Philosophic, kritisch untersucht von einem Freiwilligen. Ebendas (автор «Результатов...» - Томас Визенман (Wiesenmann), друг Якоби, выступивший со статьей, на которую ссылается Кант - ред.).
Ориентироваться в мышлении вообще, таким образом, означает: при недостаточности объективных принципов разума определяться в движении к истине (im Fiirwahrhalten) по субъективному принципу.
«Так как разум для возможности всех вещей нуждается в предположении реальности как данной и рассматривает их различия через принадлежащие им отрицания только как границы, то он видит необходимость первоначально положить в основу одну-единственную возможность, а именно возможность неограниченного существа, а все остальные рассматривать как производные. И так как текущая (durchgangige) возможность каждой вещи непременно должна встречаться в целом всего существования, по крайней мере принцип текущего определения различия возможного и действительного возможен для нашего разума только таким образом, то мы находим субъективное основание необходимости, т.е. потребность самого нашего разума, положить в основу всю возможность бытия всереальнейшего (высшего) существа. Так возникает картезианское доказательство бытия Бога: тем, что субъективные основания, которые предполагаются для применения разума (остающегося всегда в основе своей только опытным применением), считаются объективными - а с ними и потребность в постижении (Einsicht). Так обстоит дело с этим доказательством, и так обстоят дела со всеми доказательствами почтенного Мендельсона в его «Утренних часах». Они ничего не достигают для пользы демонстрации. Но из-за этого они ни в коем случае не бесполезны. Ибо не стоит упоминать, какой прекрасный повод дает это чрезвычайно тонкое развитие субъективных условий применения нашего разума для полного познания этой нашей способности, для какой пользы они суть надежные примеры. Итак, постижение истины из субъективных оснований применения разума, когда нам недостает объективных оснований и мы поэтому должны судить, все еще имеет большое значение; только мы не должны выдавать то, что есть лишь вынужденное предположение, за свободное проникновение, дабы противнику, с которым мы вступили на почву догматизации, не выставлять без нужды те слабости, которые он может использовать нам в ущерб. Мендельсон, вероятно, не думал о том, что догматизация чистого разума в сфере сверхчувственного есть прямой путь к философской экзальтации и что только критика этих самых способностей разума в принципе может излечить эту болезнь. Правда, дисциплина схоластического метода (например, вольфовская, к которой он также обращается), поскольку все понятия должны определяться, а все шаги оправдываться принципами, действительно может притормозить это безобразие на время, но она ни в коем случае ни сможет прекратить его совсем. Ибо по какому праву разуму, у которого, по его собственному признанию, так хорошо все получилось однажды в какой-то сфере, будут мешать в ней двигаться дальше? И где границы, перед которыми он должен остановиться?
Разум не чувствует; он осознает этот свой недостаток, но жаждой познания вызывает чувство потребности. Здесь дело обстоит точно так же, как с моральным чувством, которое ведь не обусловливает возникновения морального закона, - последний всецело исходит от разума, - но возникает благодаря моральным законам и действует через них, вызывая у деятельной, но свободной воли потребность в определенных основаниях.
К прочности веры относится сознание ее неизменности. Так, я могу быть совершенно уверен в том, что тезис «Бог есть» никто не может опровергнуть, ибо как он может прийти к такому опровержению? Следовательно, с верой разума дело обстоит совсем иначе, чем с исторической верой, при которой всегда еще возможно нахождение доказательства противоположного и всегда следует оставлять за собой право изменить свое мнение, если наши знания о существе дела будут расширены.
Едва ли можно понять, как уважаемые ученые могли найти в «Критике чистого разума» пособничество спинозизму. «Критика» совершенно обрезает крылья догматизму в том, что касается познания сверхчувственных предметов, а спинозизм в этом столь догматичен, что может соперничать с математиком относительно строгости своих доказательств. «Критика» доказывает, что таблица чистых понятий рассудка должна содержать в себе весь материал чистого мышления. Спинозизм говорит о мысли, которая мыслит сама, и, следовательно, об акциденции, которая существует одновременно для себя как субъект: понятие, вовсе не имеющее места в человеческом рассудке и не могущее быть в него привнесено. «Критика» показывает, что для утверждения возможности мыслящего самого себя существа далеко еще не достаточно того, что в понятии о нем нет ничего противоречивого (хотя, в случае надобности, такую возможность позволяется принять). Спинозизм же неправомерно утверждает о невозможности существа, идея которого состоит лишь из одних чистых понятий рассудка, лишенных какой бы то ни было чувственности, и где по этому отсутствует всякое противоречие, но не может ничем подкрепить эту выходящую за всякие границы дерзость. Именно ради этого спинозизм подводит прямо-таки к экзальтации. И напротив, нет другого более надежного средства для искоренения любой экзальтации, чем указание чистому разуму границ его способности. - Точно так же другой ученый находит в «Критике чистого разума» скепсис, хотя она как раз преследует цель установить нечто достоверное и определенное относительно объекта нашего познания a priori. To же самое и с диалектикой в критических исследованиях, которые, однако, преследуют цель навсегда уничтожить неустранимую диалектику, при помощи которой повсеместно догматически ведущий себя чистый разум сам себя искажает и запутывает (в этой фразе Кант лапидарно выразил свое отношение к диалектике: это неизбежный спутник разумной мысли, который, однако, заводит ее в тупик - ред.). Неоплатоники, назвавшие себя эклектиками, поскольку они умели находить свои причуды у древних авторов, внося их предварительно в их [древних авторов] произведения, поступали точно так же. Так что все обстоит по-прежнему, и нет ничего нового под Солнцем.
Мыслить самому означает: иметь высший критерий истины в самом себе (т.е. в своем собственном разуме). А максима: всегда мыслить самому - есть просвещение. Для этого нужно всего лишь вообразить себе такие максимы, которые видят просвещение в знаниях. Но поскольку они являются скорее негативным принципом применения познавательной способности, часто тот, кто слишком богат знаниями, оказывается наименее просвещенным в их использовании. Пользоваться своим собственным разумом означает только - во всем том, что предполагаешь, следует спрашивать себя: можно ли делать основание, исходя из которого нечто полагаешь, или правило, которое следует из данного предположения, всеобщим принципом использования своего разума. Этот опыт может проделать с собой каждый. И при этой проверке он вскоре избавится от всяких неверии и грез, хотя и не будет располагать достоверными данными для их объективного опровержения. Ибо он пользуется только максимой самосохранения разума. Просветить отдельных субъектов с помощью воспитания, следовательно, довольно легко. Нужно только своевременно начать прививать юным умам способность к этой рефлексии. Но просветить целое поколение очень трудно, так как всегда найдется много внешних препятствий, которые вышеупомянутое воспитание отчасти затрудняют, а отчасти запрещают.
[Это не совсем Кант. Это мое прочтение Канта в связи с проблемой эволюции мышления. Но не только Свободомыслие тоже интересная тема. — МИБ.]
Как бы далеко мы ни заходили в своих понятиях и как бы мы при этом ни абстрагировались от чувственности, им все же присущи всегда образные представления, непосредственное назначение которых состоит в том, чтобы сделать их, невыводимых обыкновенно из опыта, применимыми к опыту. Да и как иначе мы можем придать им смысл и значение, если не подводить под них какое-либо созерцание (которое всегда будет в конечном счете примером, взятым из возможного опыта)? Если же из этого конкретного умственного действия удалить теперь примесь образного , первоначально как случайного чувственного восприятия, а затем и как чистого чувственного созерцания вообще, то остается чистое рассудочное понятие , объем которого теперь расширен и содержит правило мышления вообще. Таким путем возникла сама общая логика , а некоторые эвристические методы мышления , видимо, все еще скрыты от нас в опытном применении наших рассудка и разума, которые, если бы нам удалось осторожно извлечь их из него, могли бы обогатить философию определенными максимами, полезными даже для абстрактного мышления.
…в действительности только разум, не мнимое таинственное чувство истины и не безмерное созерцание под именем веры, к которым традиция или откровение могут прививаться без согласия разума, а <…> только собственный чистый человеческий разум будет ориентировать себя. …не должно позволяться ничего большего, чем дело очищения обычного понятия разума от противоречий и защита от нападок на максиму здравого разума.
Понятие самоориентации, расширенное и уточненное, позволит нам яснее представить максимы здравого разума в их применении к познанию сверхчувственных предметов.
Ориентироваться - значит в собственном смысле слова следующее: по данной части света (на четыре которых мы делим горизонт) найти остальные, например, восток. Если я вижу на небосводе солнце и знаю, что сейчас полдень, то я смогу найти юг, запад, север и восток.
Это географическое понятие метода ориентирования я могу теперь расширить и разуметь под ним следующее: ориентацию в данном пространстве вообще, т.е. чисто математически.
Наконец, я могу еще более расширить данное понятие так, что оно будет теперь состоять в способности ориентироваться не только в пространстве, т.е. математически, но и о мышлении вообще, т.е. логически. Можно по аналогии легко догадаться, что делом чистого разума будет управление своим применением в тех случаях, когда он, отталкиваясь от известных предметов (опыта), захочет перешагнуть все границы опыта и не найдет в созерцании ни одного объекта, а всего лишь пространство для них; в этом случае при определении своей собственной способности суждения он оказывается совершенно не в состоянии подводить свои суждения под какую-либо максиму, исходя из объективных оснований познания, а исключительно лишь на основе субъективного различения.
Данное субъективное средство, выделяющееся в качестве остатка, есть не что иное, как чувство присущей разуму собственной потребности. Избежать заблуждения можно прежде всего тогда, когда не берешься судить там, где неизвестно столь много, сколько необходимо для определяющего суждения. Таким образом, незнание само по себе является причиной лишь ограниченности, но не заблуждения нашего познания. Но там, где решение вопроса о том, судить или не судить о чем-либо со всей определенностью, не столь произвольно, где необходимость суждения диктуется действительной потребностью и к тому же такой, которая присуща самому разуму как таковому, где недостаток знания ставит нам границы во всем том, что необходимо для получения суждения, там необходима максима, руководствуясь которой мы производим суждение, ибо разум должен быть однажды удовлетворен. Выше уже было оговорено, что в данном случае не может быть никакого объекта в созерцании и даже ничего сколько-нибудь подобного ему, т.е. того, с помощью чего мы могли бы представить предмет, соответствующий нашим расширенным понятиям , и обеспечить им тем самым их реальную возможность. И нам не остается ничего другого, как прежде всего хорошенько проверить то понятие, с помощью которого мы намерены выйти за пределы всякого возможного опыта, свободно ли оно от противоречий. Для этого мы должны, по меньшей мере, подвести отношение предмета к предметам опыта под чистые понятия рассудка, благодаря чему мы его, правда, не делаем еще чувственным, но мыслим все же нечто сверхчувственное, которое пригодно, по крайней мере, для использования его в опытном применении нашего разума. Без подобной предосторожности мы совершенно не в состоянии найти данному понятию применение, а грезили бы, вместо того чтобы мыслить.
Однако одним этим, а именно одним голым понятием, еще ничего не достигнуто в отношении существования этого предмета и его действительной связи с миром (совокупностью всех предметов возможного опыта). Но здесь вступает в силу право потребности разума как субъективного основания предпосылать или предполагать то, что ему не позволено знать, исходя из объективных оснований, следовательно, право ориентироваться в мышлении , в этом неизмеримом и покрытом для нас сплошным мраком пространстве сверхчувственного , только в силу своей собственной потребности.
Можно мыслить различное сверхчувственное (ведь предметы чувств не заполняют полностью всей сферы возможного), где разум, однако, не испытывает потребности распространиться на него и менее всего предполагает его существование. Разум находит в причинах мира, открывающихся чувствам (или сходных с теми, которые им открываются), и без того достаточно пищи, чтобы еще нуждаться в воздействии на него чистых духовных природных сущностей, принятие которых, скорее всего, отрицательно сказалось бы на его применении. И так как о законах, по которым могут действовать подобные сущности, мы ничего не знаем, а о законах предметов чувств знаем много или, по крайней мере, можем надеяться, что узнаем еще, то таким предположением применению разума будет нанесен, скорее, ущерб. Следовательно, играть подобными химерами или исследовать их - вовсе не потребность разума, а, скорее, простое, чреватое фантазией, праздное любопытство.
Потребность разума, однако, следует рассматривать двояко: во-первых, в ее теоретическом и, во-вторых, в ее практическом значении. …чисто практическое применение разума заключается в предписании моральных законов. Но все они подводят к идее о высшем благе, которое возможно в мире, насколько оно возможно только с помощью свободы, - к нравственности. С другой стороны, они подводят также к тому, что идет не только от свободы человека, но и от природы, а именно к наибольшему блаженству, если оно только дано в той же пропорции, что и первое. Таким образом, разум нуждается принять такое зависимое высшее благо и ради этого высший разум как высшее независимое благо; не для того, чтобы вывести отсюда обязывающий авторитет моральных законов или побудительную причину их соблюдения (ведь последние не имели бы никакой моральной значимости, если бы их мотив был продиктован чем-либо другим, кроме закона, который уже сам по себе аподиктичен), а для того, чтобы придать понятию о высшем благе объективную реальность, т.е. не допустить, чтобы его, вместе со всей нравственностью в целом, принимали только за идеал, если нигде не существовало того, идея чего неразрывно связана с моральностью.
Это, следовательно, не познание, а ощущаемая разумом потребность в спекулятивном мышлении. Но так как это направляющее средство не представляет собой объективного принципа разума, принципа познания, а является всего лишь субъективным принципом (максимой) его употребления, обусловленного лишь его ограниченностью.
Всякая вера, в том числе и историческая, хотя и должна быть разумной (ведь последним пробным камнем истины всегда является разум), но только вера разума не основывается ни на каких других данных, кроме тех, которые содержатся в самом чистом разуме. Любая вера является здесь субъективно достаточной, но объективно в сознании недостаточной инстанцией истины. Следовательно, она противопоставляется знанию . С другой стороны, если нечто полагается истинным из объективных, хотя и в сознании недостаточных оснований, т.е. просто мнится, то это мнение путем постепенного дополнения основаниями того же порядка все же может в конце концов превратиться в знание. И, напротив, если основания полагания истины в своем роде не являются объективно законными, то тогда вера никаким применением разума ни в коем случае не сможет стать знанием. Историческая вера, например, в смерть какого-либо великого человека, о которой сообщают письменные источники, может стать знанием, если местная власть сообщит о его погребении, завещании и т.д. Поэтому если то, что исторически принимается просто на основе показаний за истинное, т.е. во что верят, например, что на свете существует город Рим, что все же тот, кто не был там, может заявить: «Я знаю», а не только: «Я верю, что существует Рим», то это вполне совместимо. Напротив, чистая вера разума даже при наличии всех естественных данных и опыта не может никогда превратиться в знание, потому что основание для полагания истины в этом случае только субъективно, а именно является.лишь необходимой потребностью разума (и будет таковой до тех пор, пока мы остаемся людьми), потребностью лишь предполагать бытие высшего существа, а не демонстрировать его. Эта потребность разума в удовлетворяющем его теоретическом использовании не может быть не чем иным, как чистой гипотезой разума, т.е. мнением, достаточным для постижения истины из субъективных оснований, так как для объяснения данных следствий никакой другой причины, кроме этой, ожидать не приходится.
А ведь разум ищет оснований для объяснения. И, напротив, вера разума, покоящаяся на потребности его практического применения, могла бы быть названа постулатом разума: не потому, что это был бы вывод, удовлетворяющий всем логическим требованиям достоверности, а потому, что эта инстанция истины (если только у человека все в порядке с моралью) по своей степени не уступает знанию, хотя по своему виду она совершенно отлична от него.
Итак, чистая вера разума есть путеводитель или компас, с помощью которого спекулятивный мыслитель, идя путями разума, может ориентироваться в сфере сверхчувственных предметов, а человек с обычным, но (морально) здоровым разумом может предначертать свой путь как в теоретическом, так и в практическом отношении, в полном соответствии со своим назначением. И именно эта вера разума должна быть положена в основу любой другой веры и даже более того - любого откровения.
Вы, мужи духа и широкого образа мыслей! Я преклоняюсь перед вашими талантами и уважаю ваше человеческое чувство. Но отдаете ли вы себе отчет в том, что делаете и куда могут завести ваши нападки на разум? Вы, без сомнения, хотите, чтобы свобода мысли осталась в неприкосновенности, так как без нее наступил бы конец свободному полету даже вашего гения. Давайте посмотрим, что неизбежно станет с этой свободой мысли, если возьмет верх то, за что вы принимаетесь.
Во-первых, свободе мысли противопоставлено гражданское принуждение. Хотя и утверждается, что властями может быть отнята свобода говорить или писать, но не свобода мыслить, но только сколько и насколько правильно мы мыслили бы, если бы не думали как бы сообща с теми, с кем обмениваемся своими мыслями! Итак, можно сказать, что та самая внешняя власть, которая лишает людей свободы сообщать свои мысли публично, отнимает у них вместе с тем и свободу мыслить - единственное сокровище, которое у нас остается перед лицом всех гражданских тягот и с помощью чего единственно можно еще найти выход из этого бедственного состояния.
Во-вторых, свобода мысли берется также в том значении, что ей противопоставляется принуждение в вопросах совести, а именно когда без внешнего насилия в делах религии одни граждане берут на себя роль опекунов над другими и вместо аргументов с помощью предписанных и сопровождаемых страхом перед опасностью собственного исследования символов веры стараются заблаговременным воздействием на умы запретить всякую проверку разума.
В-третьих, свобода в мышлении означает также подчинение разума лишь таким законам, которые он дает себе сам; противоположностью этому является максима внезаконного употребления разума (чтобы, как мнит себе гений, видеть дальше, чем в условиях ограничения законом). А следствием этого, естественно, будет следующее: если разум не хочет подчиняться законам, которые он дает сам себе, то он будет вынужден подчиниться законам, которые ему дают другие, так как без закона ничто, даже самая большая глупость, не может долго творить свое дело.
Итак, неизбежным следствием объявленного внезакония мышления (освобождение от ограничений с помощью разума) будет следующее: свободе мыслить в конце концов будет нанесен ущерб и по вине не то чтобы несчастья, а настоящего высокомерия она будет в буквальном смысле слова утрачена.
Ход вещей при этом примерно следующий. Сначала гений будет очень доволен своим смелым полетом, потому что избавился от поводка, с помощью которого он обычно управлял разумом. Вскоре он своими безапелляционными решениями и большими обещаниями обворожит других, и создастся впечатление, будто он сам себя возвел на трон, который плохо украшал медлительный и тяжеловесный разум, хотя он все еще продолжает говорить от его лица. Принятие затем максимы недействительности в качестве высшей законодательной силы разума, мы, простые смертные, называем мечтательностью (экзальтацией), а те баловни благосклонной судьбы - озарением. Но так как вскоре среди них неизбежно возникает путаница мнений из-за того, что каждый будет следовать лишь своему вдохновению - ибо только разум может предписывать всем одинаковые законы, - то в конце концов из внутренних вдохновений возникнут оправданные внешними свидетельствами факты, а затем из традиций, установленных первоначально произвольно, - навязанные силой документы, т.е., одним словом, будет иметь место полное подчинение разума фактам, или суеверие, поскольку последнее позволяет все же придать себе форму закона, а тем самым и призвать себя к спокойствию.
Но так как человеческий разум все еще стремится к свободе, то, если только он разорвет когда-либо свои оковы , его первые шаги применения давно ставшей непривычной свободы должны выродиться в злоупотребление и дерзкую уверенность вне зависимости его способности от каких-либо ограничений, в убежденность в единоличном господстве спекулятивного разума, который решительно отвергает все, что не может быть оправдано объективными основаниями и догматической убедительностью. Максима независимости разума от своей собственной потребности (отречение от веры разума) называется безверием; не историческим безверием, поскольку его нельзя совершенно мыслить преднамеренным, способным, следовательно, отвечать за свои действия (потому что каждый, хочет он того или нет, должен верить факту, если он только достаточно подтвержден, точно так же, как и математическому доказательству), но неверием в разум - это такое жалкое состояние духа человеческого , которое сначала лишает моральные законы силы воздействий на душу, а со временем и их авторитета и порождает такой образ мышления, который называется свободомыслием , т.е. принципом, не признающим никакого долга. Вот тут и вмешиваются власти, чтобы не допустить беспорядка в самих гражданских делах. И так как наиболее расторопное и убедительное средство для них и есть самое лучшее, то они вообще ликвидируют свободу мышления и подвергнут ее наравне с другими занятиями государственной регламентации. Таким образом, свобода в мышлении, если она хочет действовать независимо от законов разума , разрушает в конце концов саму себя.
Вы, друзья рода человеческого и всего того, что для него свято! Вы можете принимать то, что кажется вам после тщательной и добросовестной проверки наиболее вероятным, будь то факты или разумные основания, только не лишайте разума того, что делает его самым высшим благом на земле, а именно права быть окончательным критерием истины! В противном случае вы сами окажетесь недостойны этой свободы, наверняка ее утратите и, более того, ввергнете в это несчастье других своих невинных соотечественников, образ мыслей которых обычно направлен на то, чтобы пользоваться своей свободой согласно закону, а тем самым и на благо всего мира!
Государство пытается ограничить или уничтожить свободу слова, но человек продолжает свободно мыслить, а, следовательно, он всегда будет стремиться открыто выражать свои мысли. То же можно сказать о свободе совести: религиозные догматы всячески ограничивают духовный выбор человека. Однако, основываясь на своем разуме, человек делает выбор в пользу собственных убеждений. Чтобы отстоять свободу мышления, человек должен просвещать свой разум и развивать в себе способность к рефлексии.
«Во-первых, свободе мысли противопоставлено гражданское принуждение. Хотя и утверждается, что властями может быть отнята свобода говорить или писать, но не свобода мыслить, но только сколько и насколько правильно мы мыслили бы, если бы не думали как бы сообща с теми, с кем обмениваемся своими мыслями! Итак, можно сказать, что та самая внешняя власть, которая лишает людей свободы сообщать свои мысли публично, отнимает у них вместе с тем и свободу мыслить - единственное сокровище, которое у нас остается перед лицом всех гражданских тягот и с помощью чего единственно можно еще найти выход из этого бедственного состояния», - пишет Кант.
Из свободы мышления вытекает также свобода совести. С помощью собственного разума, а не установленных религиозных предписаний человек способен выбирать свои убеждения.
«Во-вторых, свобода мысли берется также в том значении, что ей противопоставляется принуждение в вопросах совести, а именно когда без внешнего насилия в делах религии одни граждане берут на себя роль опекунов над другими и вместо аргументов с помощью предписанных и сопровождаемых страхом перед опасностью собственного исследования символов веры стараются заблаговременным воздействием на умы запретить всякую проверку разума», - пишет философ.
«В-третьих, свобода в мышлении означает также подчинение разума лишь таким законам, которые он дает себе сам», - пишет Кант.
Способность подчиняться законам собственного разума, устанавливать их самому, а не подчиняться внешним, гетерономным нормам, и есть свобода мышления. Если человек отказывается от нее, он будет вынужден подчиниться другим законам.
«А следствием этого, естественно, будет следующее: если разум не хочет подчиняться законам, которые он дает сам себе, то он будет вынужден подчиниться законам, которые ему дают другие, так как без закона ничто, даже самая большая глупость, не может долго творить свое дело. Итак, неизбежным следствием объявленного внезакония мышления (освобождение от ограничений с помощью разума) будет следующее: свободе мыслить в конце концов будет нанесен ущерб и по вине не то чтобы несчастья, а настоящего высокомерия она будет в буквальном смысле слова утрачена», - утверждает немецкий философ.
В примечании к статье Кант дает оптимальный, на его взгляд, рецепт того, как не утратить автономность, то есть свободу своего мышления. Это путь просвещения, которое есть достижение разумом своего совершеннолетия и самостоятельности, как утверждает Кант в своей статьей «Ответ на вопрос: Что такое Просвещение?» (1784).
«Мыслить самому означает: иметь высший критерий истины в самом себе (т.е. в своем собственном разуме). А максима: всегда мыслить самому - есть просвещение», - пишет Кант.
«Просветить отдельных субъектов с помощью воспитания, следовательно, довольно легко. Нужно только своевременно начать прививать юным умам способность к этой рефлексии. Но просветить целое поколение очень трудно, так как всегда найдется много внешних препятствий, которые вышеупомянутое воспитание отчасти затрудняют, а отчасти запрещают», - добавляет он.
В статье идет речь о попытке Ж. Делёза описать так называемое мышление различия, которое разрывает любую связь с предпосылками естественного дофилософского мышления и стремящейся к благу и истине доброй воли. По мнению автора статьи, это делёзовское мышление различия все же имеет предпосылку и вполне очевидную. А само мышление для Делёза есть именно поток энергии, чувственная «витальность».
Иной подход к анализу начала мышления мы находим у Канта в его статье «Что значит ориентироваться в мышлении?», когда он ведет речь о «потребности разума». Так как «потребность разума» для обязательного практического интереса самого разума является необходимой, она направляет, по мысли Канта, не только практический разум, но и общее систематическое и критическое мышление. Именно «здравый смысл», как место этой самой «потребности разума», может и должен быть акцептирован как законная, рациональная предпосылка для осуществления мышления.
Как продолжатель традиции трансцендентальной философии Канта основатель марбург-ской школы неокантианства, по мнению проф. Помы, разрабатывает и углубляет указанную проблематику, приходя к оригинальным и интересным результатам.
Ключевые слова: мышление, первоначало, потребность разума, Делёз, Кант, Коген, рациональность, различие, теоретический и практический разум.
В третьей достаточно интересной главе «Образ мышления» своей работы «Различие и повторение» Жиль Делёз обсуждает вопрос предпосылок философского мышления. Он сожалеет о том, что философия, хотя она и стремится «эксплицитно выявить в понятии то, что было просто известно без понятия» (Делёз, 1998, с. 163), все же не может без субъективных или имплицитных допущений, то есть допущений, «окрашенных чувством, а не включенных в понятие» (Делёз, 1998, с. 163). Подобные чувства, которые допускаются в любом философском мышлении и которые поэтому являются догматическими и ортодоксальными, есть истинная природа
* University of Turin, Via Giuseppe Verdi, 8, Torino, Italy. Поступила в редакцию 24.07.2014 г. doi: 10.5922/0207-6918-2015-1-3 © Пома А., 2015
УДК (09) + 929
К ПРИРОДЕ МЫШЛЕНИЯ БЕЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
и добрая воля мышления, совпадающие в здравом смысле (Сететэтп): «Эта стихия состоит в представлении мышления как естественного проявления способности, в допущении естественной мысли, способной к истине, к соприкосновению с истиной в двойном облике доброй воли мыслителя и правдивой сущности мышления» (Делёз, 1998, с. 165). Это, согласно Делёзу, обусловливает конститутивный характер мышления, поскольку оно является независимым от того, чтобы мыслить различие: «В этом смысле имплицитным допущением концептуального философского мышления является дофилософский, естественный, почерпнутый из чистой стихии обыденного сознания образ мышления. Согласно этому образу мышление близко к истине, формально обладает истиной и материально желает истины. И согласно этому образу каждый знает, должен знать, что означает мыслить. И тогда неважно, начинается ли философия с объекта или субъекта, бытия или бытующего, раз мышление остается подчиненным этому образу, предопределяющему уже все остальное - дистрибуцию объекта и субъекта, бытия и бытующего» (Делёз, 1998, с. 165 - 166).
Для того чтобы избежать идентичности и представления, мышление, согласно Делёзу, должно критиковать и разрушить субъективные допущения, «постулаты» мыслепредставления и избрать путь «мизософии» и «злой воли», чтобы произвести себя в самом себе: «Тогда лучше выявляются условия той философии, которая не будет иметь никаких допущений: вместо того чтобы опираться на нравственный Образ мышления, она будет исходить из радикальной критики имплицируемого Образа и "постулатов". Она найдет свое различие и настоящее начало не в союзе с "дофилософским" Образом, а в решительной борьбе с Образом, разоблаченным как не-фи-лософия. Тем самым она нашла бы аутентичное повторение в мысли без Образа хотя бы ценой самых больших разрушений, самой сильной деморализации и упрямства философии, у которой в союзниках остался бы только парадокс; она должна была бы отказаться от формы представления как элемента обыденного сознания. Как если бы мышление могло начинать мыслить снова и снова, лишь освободившись от Образа и постулатов. Напрасно претендовать на переделку доктрины истины, если прежде не провести проверку постулатов, распространяющих искаженный образ мышления» (Делёз, 1998, с. 166 - 167).
Делёз, представляя признаки этого мышления различия, исходит из интерпретации известного места платоновского «Государства», где Сократ говорит о чувственных предметах, которые «принуждают к мышлению». Согласно Делёзу, мышление возникает из встречи со случайным импульсом, который производит первоначально серьезное, принуждающее и абсолютно необходимое насилие: «Воистину, концепты всегда обозначают лишь возможности. Не хватает власти абсолютной необходимости, то есть первичного насилия над мышлением, странности, враждебности, единственно способной вывести мышление из его естественного оцепенения и вечной возможности: таким образом, существует только невольная мысль, вынужденно вызванная в мышлении, тем более совершенно необходимая, что рождается она путем взлома, из случайного в этом мире. В мысли первичны взлом, насилие, враг, ничто не предполагает философию, все идет от мизософии. Для обоснования относительной необходимости мыслимого не будем полагаться на мышление, возможность встречи с тем, что принуждает мыслить, поднимая и выпрямляя абсолютную необходимость акта
мышления, страсти к мышлению. Условия подлинной критики и подлинного творчества одинаковы: разрушение образа мышления - как собственного допущения, генезиса акта размышления в самом мышлении» (Де-лёз, 1998, с. 174 - 175).
Тем, что в подобном мышлении любая способность отделяется от «здравого смысла», то есть от единогласного осуществления способности при признании идентичности объекта, она раскрывается в «трансцендентном использовании», вследствие чего постигает парадоксальным образом, «чем, в конце концов, она затронута и произведена в мире»: нечувственное чувственности, бессознательное памяти, немыслимое мышления, невозможная воображаемость способности суждения, молчание языка и возможные иные трансцендентные предметы других, еще неоткрытых способностей. Мышление, свободное от предпосылки обыденного сознания, становилось бы, согласно Делёзу, таким образом, свободным и от представления и во всех своих потенциальностях раскрывалось бы как мышление различия: «От sentiendum к cogitandum росло насилие того, что заставляет мыслить. Все способности сорвались с петель. Но что такое петли, как не форма обыденного сознания, заставляющего все способности двигаться по кругу и совпадать? Каждая из них по-своему и в свою очередь разбила форму обыденного сознания, удерживавшую ее в эмпирической стихии докса, чтобы достичь энной силы как парадоксального элемента трансцендентного действия. Вместо совпадения всех способностей, способствующего общему усилию узнавания объекта, налицо расхождения, когда каждая способность поставлена перед лицом "присущего" ей в том, что к ней сущностно относится. Разноголосица способностей, цепь натяжения, бикфордов шнур, когда каждая из них наталкивается на свой предел и получает от другой (или передает ей) только насилие, сталкивающее ее с собственной стихией как несвязанностью или несоответствием» (Делёз, 1998, с. 177).
Я уже в другом месте выразил и обосновал мнение, что это воззрение Делёза представляет собой существенно заложенную в Ницше энергетическую и, следовательно, иррациональную побудительную перспективу мышления, обнаруживая мистические следствия. Я также пытался показать, что критический идеализм, особенно в той форме, которую он принимает в мышлении Германа Когена, избегает модели мышления идентичности и представления, которую во всей философской традиции осуждает Делёз, и в силу этого способен к аутентичному мышлению различия, хотя речь идет целиком и полностью о рациональном мышлении. Я бы не хотел возвращаться к уже сказанному, но скорее подвести к интересным соображениям Делёза, чтобы поставить вопрос о предпосылках философского мышления, того, что Кант называет «природой разума» (Poma, 2006, s. 313 ff). Для меня здесь нет речи о проблеме беспредпосылочного мышления, которая мне не кажется важной исключительно для философии, понимаемой как абсолютная система действительности и мышления, как у Гегеля. Вместо этого я хотел бы предложить рефлексию о рациональном и нерациональном характере предпосылок мышления. Это мне кажется более достойным вопросом. Предположим, что рациональное мышление исходит из предпосылок, тогда они, со своей стороны, должны быть рациональными, так как в противном случае они лишали бы силы рациональную строгость самого мышления. И все же, как рациональное мышление может что-то предпосылать, что со своей стороны является рациональным?
Как я уже отметил, по моему мнению, и делёзовское мышление различия в действительности не свободно от предпосылок (Рота, 2006, б. 339). Но Делёз утверждает все же противоположное. Он полагает, что мышление различия разрывает любую связь с предпосылками естественного дофило-софского мышления и стремящейся к благу и истине доброй воли. Мышление различия не может с отрадной безопасностью предполагать «мнимое сходство с истиной этой рЫНа, предопределяющей одновременно образ мышления и понятие философии» (Делёз, 1998, с. 174). «Некто не позволяет представлять себя, но и не хочет представлять что бы то ни было. Это не частное лицо, наделенное доброй волей и естественным мышлением, но человек особенный, исполненный злой воли, которому не удается мыслить ни естественно, ни понятийно» (Делёз, 1998, с. 164). Это описание позволяет сделать только такое заключение, что новое мышление различия не разделяет субъективные предпосылки традиционного мышления, но не такое, что оно не приемлет никаких предпосылок. В действительности, представляется, что мышление различия, как описывает его Делёз, имеет предпосылку и вполне очевидную: оно возникает из «захвата» «фундаментальной встречи», который насильно вынуждает мыслить и так производит мышление. Цитируя и соглашаясь с Арто, Делёз пишет, «чтобы что-либо мыслить» есть «единственно постижимое "произведение"», оно есть «порыв, сосредоточенность мышления, который проходит через разного рода бифуркации, отправляется от нервов и сообщается с душой для того, чтобы прийти к мысли» (Делёз, 1998, с. 184). Когда Делёз утверждает, что мышление различия беспредпосылочно, несмотря на случайное первоначало в принуждающем порыве, то это, полагаю я, зависит от того, что это мышление не является ничем, кроме порыва, который его вызывает. Само мышление для Делёза есть именно поток энергии, чувственная «витальность». «Действительно, - пишет Делёз, - путь, ведущий к тому, что следует мыслить, начинается с чувственности» (Делёз, 1998, с. 181). Если мышление производится, таким образом, в чувственном порыве, то оно не считается все же предпосланным, поскольку уже в момент своего производства мышление есть «генезис мышления в самом мышлении».
Если хотят признать и оправдать природу рационального мышления, предпосылку, которая все же не оспаривает фундамент понятийного мышления, то ее тогда должны обнаруживать в первоначальном условии, которое уже участвует в рациональности, к производству и ориентированию которой она определена. Важные черты подобной предпосылки мы узнаем из анализа, который предпринимает Кант в своей статье «Что значит ориентироваться в мышлении?» в отношении к «потребности разума».
Как известно, в этом небольшом произведении Кант высказывает свою точку зрения на спинозистский спор между Фридрихом Генрихом Якоби и Моисеем Мендельсоном. Из кантовской аргументации следует признание заслуг Мендельсона в защите разумного характера философского мышления с оговоркой, что он оспаривает доказательность аргумента существования Бога Мендельсона. Центральная тема обоих суждений Канта - «здравый смысл», «здравый разум», или «простой здравый рассудок», к которому обращается Мендельсон для того, чтобы ориентироваться в спекулятивном употреблении разума (Кант, 1993, с. 197). Мендельсону, пишет Кант, «все же принадлежит та заслуга, что он настаивал на следующем: последний критерий допустимости суждения надо искать не где-либо, а исключи-
тельно в разуме; и при выборе своих положений разум мог теперь руководствоваться или проницательностью, или голой потребностью и максимой своей собственной полезности» (Кант, 1993, с. 217). Напротив, согласно Канту, заблуждение Мендельсона состояло в том, что он эту субъективную предпосылку разума смешал с мнимой и объективно необоснованной способностью познания таковой, таким образом, заменил важную максиму, чтобы ориентироваться в мышлении, на объективный познавательно-обосновываемый принцип. Кант пишет: «Это, следовательно, не познание, а испытываемая благодаря чувству потребность разума, и с ее-то помощью Мендельсон (сам того не зная) ориентировался в спекулятивном мышлении. Но так как это направляющее средство есть не объективный принцип разума, основоположение понимания, а всего лишь субъективный принцип (максима) его употребления, дозволяемого исключительно границами самого разума, [есть] лишь следствие потребности, и только для себя составляет полное определяющее основание для нашего суждения о наличном бытии высшего существа, по отношению же к последнему данное средство употребляется лишь случайно, для ориентирования в попытках спекулятивно размышлять об этом самом предмете; - то [Мендельсон], конечно, в данном случае заблуждался, вверяя подобной спекуляции столь мощную способность - добиваться для себя самой, и [притом] на пути демонстративного доказательства» (Кант, 1993, с. 215)1. Это заблуждение принудило Мендельсона вступить на старый путь метафизической, догматической философии. Поэтому последнее произведение Мендельсона «Утренние часы», как пишет Кант в своем письме к Христиану Готфриду Шульцу в конце ноября 1785 года, образует «последнее завещание догматизирующей метафизики», «памятник», «непреходящий пример апробирования своих основоположений, чтобы их вследствие этого либо подтвердить, либо опровергнуть» (Kant, AA, Bd. 10, S. 428f). Таким образом, великое произведение Мендельсона является тем не менее памятником прошлого философии, которому новое критическое мышление оказывает последнюю почесть, но которую оно преодолевает и отменяет.
Таким образом, кантовские рассуждения концентрируются на двух пунктах: на разумном характере субъективной предпосылки, на которую ориентируется разум, - за это Кант хвалит Мендельсона, и на чисто ориентирующей, регулирующей природе этой предпосылки, которая не обосновывает никакого объективного познания, - и в этом пункте Кант расходится с Мендельсоном и критикует его, потому что тот остается связанным с догматической философией и не достигает обоснованности критической философии, поскольку он не сохраняет это различие. Догматический характер, в котором Делёз упрекает любую философию, исходящую из здравого смысла, присущ, согласно Канту, только той философии, которая не отдает себе отчета в субъективной природе и, следовательно, в только ориентирующей ценности предпосылки.
Но что понимает Кант под «здравым смыслом» или «здравым разумом»? В рассматриваемой статье он перенимает эти выражения у Мендельсона и в других работах использует уже самостоятельно. Можно легко ус-
1 Я не касаюсь здесь вопроса спора между Кантом и Мендельсоном, который недавно был проанализирован Райнером Мунком в его докладе «Mendelssohn and Kant on the Bond of Reason and Reason"s Needs» на конференции «Moses Mendelssohn"s Metaphysics and Aesthetics» (Amsterdam, 7. - 10. Dezember 2009, im Erscheinen).
тановить, что в продолжении статьи он стремится строго определить значение, в котором эти выражения приемлемы, и отграничить его от других значений, в которых они, напротив, приводят к заблуждениям и путанице. Именно двойственность этих выражений расчищает пространство для позиции Якоби и тех, кто полемизирует с Мендельсоном. Решающий вопрос звучит так: является ли потребность в самом общем разуме рациональной или нет, так как во втором случае разум служил бы тому, чтобы представлять то, что ему произвольно благодаря откровению или определенным ин-туициям настоятельно рекомендуется, точно как в случае с позицией Якоби и его сторонников: «Даже всеобщий здравый разум, при той двойственности, которую Мендельсон допускает при реализации этой способности в ее противоположении спекуляции, сам подвергся бы опасности послужить основоположением для мечтательности и для полного развенчания разума» (Кант, 1993, с. 197). Можно было бы утверждать, что вся статья представляет собой краткое исследование с целью именно этого пояснения.
Прежде всего Кант предпринимает переименование понятия «здравый смысл», описывая его как «чувство, присущей разуму потребности» (Кант, 1993, с. 203). Это выражение, которое избегает вышеназванной любой ссылки на согласие общего мнения, связывает друг с другом два существенных признака: в одном речь идет о потребности (таким образом, о чувстве), которая стремится к удовлетворению; в другом - о потребности разума, при которой рациональное мышление ничем иным не обусловливается и ничем не определяется, как самим собой. «Потребность» в общепринятом смысле, который разделяет и Кант, есть, без сомнения, чувство, не понятие и представляется как напряжение между недостатком и удовлетворением. Но Кант все же уточняет, что в случае потребности разума речь идет не о патологическом чувстве, не о чувственной склонности, но о чувстве разума. При помощи аргументации, которая немного позже, в 1788 году в «Критике практического разума» распространится на «моральное чувство», он уточняет: «Разум не способен чувствовать; он признает этот свой недостаток и с помощью стремления к познанию пробуждает чувство потребности. Здесь дело обстоит точно так же, как с моральным чувством, которое не является причиной возникновения морального закона, ибо последний всецело проистекает из разума, но возникает или действует благодаря моральным законам, следовательно, благодаря разуму, между тем как деятельная и все-таки свободная воля нуждается в определенных основаниях» (Кант, 1993, с. 215). Речь идет кроме того о «присущей разуму» потребности, скорее присущей «разуму самому по себе» (Кант, 1993, с. 205), таким образом, чистому разуму, поскольку перед взором разума согласно его руководству «прежде всего предстает его собственный интерес» (Кант, 1993, с. 217). Это означает, что разум при преследовании этой потребности направляется не представлением чувственного движущего мотива, но только самим собой. Следовательно, потребность разума является чисто априорной.
На пути уточнений Кант осуществляет важные шаги по ограничению и определению приемлемого значения понятия «здравый смысл». В заключении этого процесса пояснения Кант предлагает одно высказывание, которое он считает подходящим для того, чтобы обозначить субъективную предпосылку рационального и критического мышления: «Но так как выражение: "изречение здравого разума" в предложенном вопросе все еще остается двусмысленным и может приниматься либо за суждение на основе
проницательности разума, - как его ошибочно понимал сам Мендельсон, либо за суждение на основе интуиции разума, - как, кажется, его трактует автор "Результатов"; то необходимо этому источнику суждения дать другое обозначение, и самое подходящее - это вера разума» (Кант, 1993, с. 217).
Кантовская точка зрения представляется, таким образом, как третья, противостоящая обоим спорящим сторонам, позиция. С одной стороны, субъективная предпосылка разумного мышления не имеет никакой познавательной ценности, но с другой - она не является и результатом непостижимой интуиции или откровения. То, что защищает потребность разума, хотя она и субъективна, от любого смешения с иллюзиями и фантазиями, есть его необходимое отношение к объективному познанию. Кант пишет: «Если же заранее было условлено, что исключается созерцание объекта или что-либо ему аналогичное, с помощью чего мы могли бы представить нашим расширенным понятиям сообразный им предмет, тем самым упрочивая эти понятия соответственно их реальным возможностям, то нам не останется ничего другого, как прежде всего хорошенько испытать то понятие, благодаря которому мы намерены выйти за пределы всякого возможного опыта, [и убедиться], свободно ли оно также и от противоречий; а затем по меньшей мере подвести отношение предмета к предметам опыта под чистые понятия рассудка, чем мы вовсе еще не делаем его чувственным, но все же мыслим нечто сверхчувственное, пригодное хотя бы для опытного употребления нашего разума. Ибо без этой предосторожности мы вовсе не смогли бы найти такому понятию никакого употребления, но грезили бы вместо того, чтобы мыслить» (Кант, 1993, с. 205).
Это уточнение существенно не только потому, что оно обозначает непреодолимое различие между субъективной предпосылкой разума и любой формой мистического и фантастического иллюминативизма, но и потому, что оно позволяет утвердить соразмерную разуму легитимность этой предпосылки. Кант использует интересное выражение «право потребности разума» как право «ориентироваться в мышлении» (Кант, 1993, с. 207). И Делёз подчеркивает, что возможность мышления является не фактическим, но правовым вопросом. Ориентируясь на попытку Арто в производстве мышления в его первоначальной возможности, он подчеркивает: «Трудности, испытываемые им, следует понимать не как факты, но как сложности, по праву касающиеся и затрагивающие сущность того, что значит мыслить. Арто говорит, что [его] проблема состоит не в ориентации мышления, не в совершенном выражении того, что он думает, не в старании и обретении метода или совершенстве стихов, но просто в том, чтобы что-либо мыслить» (Делёз, 1998, с. 183). Право, о котором говорит Делёз, совпадает с фактом, так как здесь мышление является потоком энергии, то право есть ничто иное, как сила, с которой этот поток способен удерживаться. «Право потребности разума», о котором говорит Кант, состоит, напротив, в законности предпосылать, хотя и только субъективно, идею без того, чтобы она была так обоснована и объективно познанное объяснимо: «Все же и при этом пробеле понимания имеется достаточное субъективное основание для предположения таковой первопричины, ибо разум испытывает потребность в том, чтобы нечто для него понятное существовало в качестве предпосылки и чтобы исходя из нее было объяснено данное явление, так как все остальное, с чем разум обычно может связывать одно лишь понятие, не удовлетворяет указанной потребности» (Кант, 1993, с. 211).
Таким образом, вера разума на основе своего отличия как от мнимого объективного познания, так и от мнимого трансцендентного вдохновения в одном характеризуется через невозможность превратиться в «знание» («чистая вера разума даже при наличии всех естественных данных разума и опыта никогда не может превратиться в знание») (Кант, 1993, с. 219), в другом - через законность и достоверность разума, которые равноценны законности знания («принятое за истину... по рангу не уступает знанию, хотя по типу оно и совершенно отлично от знания») (Кант, 1993, с. 211).
В заключении этого пояснения Кант формулирует свою окончательную позицию: «Итак, чистая вера разума есть указатель пути, или компас, с помощью которого спекулятивный мыслитель, идя тропами разума, ориентируется в сфере сверхчувственных предметов, а человек с обыденным, но (морально) здоровым разумом может предначертать свой путь, как в теоретическом, так и практическом отношении, в полном соответствии со всеми целями, отвечающими его назначению» (Кант, 1993, с. 221).
На этом измененном и точнее понятом выражении «общий, все же (моральный) здравый разум», которое для Канта абсолютно равно другому словосочетанию «вера разума», мы должны еще немного задержаться. Как видно, у Канта это выражение имеет совершенно другое значение, нежели тривиальное «всем известно, никто не может отрицать» (Делёз, 1998, с. 164), которое ему приписывает Делёз.
Уточнение, что «всеобщий разум» только тогда приемлем, когда он является «(морально) здоровым», очевидно означает не исключение «больного» разума, оно не касается вопроса сумасшествия, но скорее говорит о том, что должен быть обоснован и всеобщий разум и что это обоснование первоначально следует находить в его практическом, а не спекулятивном интересе. Кант поясняет, что продиктованная потребностью разума субъективная максима представляет из себя лишь не необходимое «приятие», в то время как с практической точки зрения она есть необходимая предпосылка, что значит «постулат разума»: «Куда важнее потребность разума в его практическом употреблении, так как она безусловна, и мы вынуждены предполагать существование Бога не просто в силу того, что мы желаем [о чем-то] судить, а потому, что мы должны выносить суждения» (Кант, 1993, с. 213).
В «Критике практического разума» Кант комментирует упрек, который ему в своем ответе на кантовскую работу 1786 года адресовал Томас Вицен-ман: «В "Deutsches Museum" за февраль 1787 г. помещена статья покойного Виценмана, человека тонкого и светлого ума (о преждевременной смерти которого мы весьма сожалеем), где он оспаривает право заключать от потребности к объективной реальности ее предмета и объясняет свою мысль примером с влюбленным, который, безумно увлекшись идеей красоты, что было лишь плодом его воображения, хотел заключить, что такой объект действительно где-то существует. Я считаю, что Виценман совершенно прав во всех случаях, где потребность основывается на склонности, которая не может постулировать существование своего объекта даже для тех, кто целиком в ее власти, в еще меньшей мере содержит в себе требование, имеющее силу для каждого, и поэтому она есть только субъективное основание желаний. Здесь же она есть потребность разума, возникающая из объективного основания определения воли, а именно из морального закона, который безусловно обязателен для каждого разумного существа, a priori дает право на допущение соответствующих ему условий в природе и
делает эти условия неотделимыми от полного практического применения разума» (Кант, 1997, с. 681, 683). Как видно, «право потребности разума» есть то право, которое является субъективной, но объективно обоснованной максимой, при помощи которой разум ориентирует мышление и которая отличается от чисто субъективного и потому иррационального и фантастического состояния, отвлекающего разум от его строго выверенного направления. Это право дано практическим интересом. В конечном итоге, - это значение кантовского утверждения «О примате чистого практического разума в его связи со спекулятивным» (Кант, 1997, с. 611). Так как «потребность разума» для обязательного практического интереса самого разума является необходимой, она направляет, таким образом, не только практический разум, но и общее систематическое и критическое мышление, выполняя его регулятивно в идее интеллигибельного и безусловного. Исключительно это есть «здравый смысл», который может и должен быть акцептирован как законная, со своей стороны рациональная предпосылка для осуществления мышления.
Можно было бы теперь спросить: что остается ото всей этой кантовской проблематики в философии Германа Когена? Я полагаю, ответ может звучать так, что многое остается, и эта проблематика даже разрабатывается и углубляется Когеном с оригинальными и интересными результатами, которые в отношении к его общему мышлению совершенно не являются второстепенными.
В любом случае, в комментарии Когена к кантовской теории практических постулатов, который мог бы занять привилегированное положение в соответствующих размышлениях, не содержится ничего особенного. В главе работы «Кантовское обоснование этики», посвященной высшему благу и постулатам, Коген развивает чисто восстанавливающее соображение о том, что Кант в своем учении сделал некогерентную уступку эвдемонизму и установил опасную связь чистой этики и религии (Cohen, 2001, S. 359-360). В своем труде Коген однозначно выбирает для этики выход к историческому и политическому идеалу в царстве целей за счет индивидуального учения о высшем благе и отказывает, следовательно, учению о практических постулатах в любой значимости.
Все же Коген уточняет, как должно быть подчеркнуто, что идея свободы у Канта не является постулатом, как бы не могли некоторые места его произведения, особенно в «Диалектике чистого практического разума», намекать на это. Он замечает, что это понятие «нигде не называется постулатом» (Cohen, 2001, S. 357). И все же идея свободы представляют собой идею безусловного par excellence, которая и для Канта выступает как предмет потребности разума. Кантовское соображение не может быть редуцировано к вопросу о существовании Бога. Если он в своих рассуждениях в статье «Что значит ориентироваться в мышлении?» концентрируется вокруг идеи Бога, то это зависит от случайного повода, а именно от оценки дебатов между Мендельсоном и Якоби, которые и вращаются вокруг этой темы, и от того, что его мысль о здравом смысле относилась к вопросу о существовании Бога. Это ничего не меняет в утверждении Канта, что потребность разума существует в отношении к идее безусловного. «Ибо мало того, что наш разум уже испытывает потребность в основу понятия всякого ограниченного, следовательно в основание всех других вещей, положить понятие неограниченного; эта потребность выражается и в том, что налич-
ное бытие этого неограниченного становится предпосылкой, без коей разум вовсе не может предположить никакого удовлетворительного основания случайности существования вещей в мире, и еще менее - целесообразности и порядка, которые достойны восхищения и обнаруживаются повсюду... » (Кант, 1993, с. 209, 211). И в своем осторожном письме к Якоби от 30 августа 1789 года Кант отчетливо ссылается на идею свободы как «компаса разума»: «Я не нахожу, что Вы для этого полагаете компас разума ненужным или даже вводящим в заблуждение. То, что добавляется к спекуляции, но и все же находится в ней, в самом разуме, и что мы именно так (именем свободы, сверхчувственными способностями причинности в нас) называем, но не знаем, как постигнуть, есть необходимое добавление» (Kant, AA. Bd. 11, S. 76).
Если мы последуем за рассуждениями Когена о безусловном у Канта, то найдем много интересного для нашей темы. Относительно трансцендентальных идей как принципов силлогизма Коген пишет, что речь идет об «антиципациях», о «понятиях, в которых интерес метафизики неизменен» и чье «познавательно-критическое значение» состоит в том, чтобы «обозначить вещь в себе, истолковать ее требование», поскольку мы нуждаемся во «всеобъемлющем синтезе» как синтезе суждений благодаря понятиям рассудка. Прежде всего, объясняя свою позицию, он обращает критику на Джона Стюарта Милля, в связи с чем идея как принцип силлогизма есть petition principia (предвосхищение основания - лат.) в позитивном установлении, она есть, без сомнения, «petition» (стремление - лат.), «устремленность разума», в которой собственное значение силлогизма присутствует в качестве задачи высшего синтеза: «То, что в правиле (major) отразилась бы плохая тавтология... никто не может оставить незамеченным. И что это "все" есть "петиция", которая руководит всем методом заключения разума и создает его; что в основной посылке говорит принцип: в этом заключена сила заключения, в этом - его незыблемое значение в аппарате познания и в истории идей. Петиция, которую содержит основная посылка, является принципом; поэтому и в этом смысле силлогистика свободна от petitio prin-cipii... Это идея вещи в себе для понятия явлений. Как истолкования вещи в себе не имеют никакой иной цели, так и силлогизм предотвращает "пропасть интеллигибельной случайности"» (Cohen, 2001, S. 79-80).
Коген использует выражение «пропасть интеллигибельной случайности» не только в отношении идеи Бога, но и в отношении всех идей и особенно в отношении идеи свободы, при этом он убежден в примате идеи свободы как единстве и обобщении всех идей. Он заявляет: «Как Платон, мудрость которого еще нуждается в глубоком разъяснении, опирает учение об идеях на идею блага, так и в критическом идеализме категории встраиваются в идеи. И так как. все три связываются с идеей свободы, выносят они строительные камни опыта enÉKEiva тп; ouaiac; (за пределами бытия - греч.) и строят над пропастью интеллигибельной случайности наряду со сферой бытия сферу, в которой реально то, что должно быть, хотя и не есть; и если бы она сама, как полагают почитатели опыта, никогда не стала существующей: сферу долженствования» (Cohen, 2001, S. 133).
В главе «Примат практического разума» Коген развивает обстоятельную критику «аффекционального (affektionalen) восприятия примата» со стороны Фихте. Относительно этого опасное заблуждений Фихте, согласно Когену, состояло в том, что он примат практического разума в восприятии
свободы превратил в «последнюю инстанцию», из которой выводятся любые, в том числе и теоретические, познания. Так, Коген пишет: «Мы находимся в том месте, где прекращается философия и начинается биография». То, что у Канта является преимуществом практического интереса в ориентации систематического познания, становится у Фихте абсолютностью практического чувства, на котором покоится вся познавательная система и из которого она выводится. Имея ввиду это искажение критической перспективы со стороны Фихте, Коген утверждает: «Нет больше никакого критерия достоверности в понятиях и законах, но лишь в чувстве. И это чувство также и согласно объекту есть то, что оно субъективно обозначает в качестве психологической функции: самодостоверность практической истины.
Но практическая истина одновременно является основой всей теоретической правильности. Не на учении об опыте должна основываться этика, не в нем имеет она свою норму, но критерием всей истины является практическое чувство» (Cohen, 2001, S. 291 - 292).
В чем Коген здесь обвиняет и от чего отграничивает свое восприятие, есть ровно то, что Кант осуждает в статье «Что значит ориентироваться в мышлении?» как догматизм Мендельсона. И нашими размышлениями о теме «потребность разума» у Когена тем самым установлена важная граница с тем, чтобы мы в воодушевлении исследованием не совершили ошибки, не потеряли из вида твердое намерение Когена не свернуть с пути строго рационального обоснования системы познания и философского мышления.
Корректное значение примата практического разума Коген устанавливает в регулятивной ценности идей, особенно идеи свободы. Это значение соответствует безудержному «порыву к расширению» исследования и познания разума. Благодаря удовлетворению этого порыва идеи не становятся все же в объектах трансцендентными, но являются правилами разума, поскольку они есть и остаются его проблемами. Только при этих условиях остаются идеи внутри своего рационального значения, и поэтому можно опровергнуть любое подозрение в отношении их регулятивного использования, «как будто само опытное знание в своих границах не позволяет конститутивным понятиям превратиться в проблематичные идеи; как будто сами законы в необходимом и гомогенном ограничении опыта не расширяются до максим по требованию, по заданию безусловного» (Cohen, 2001, S. 258).
Этот комплекс проблем вновь появляется в слабом месте системы Коге-на, а именно в начале «Этики чистой воли», где он теоретизирует о месте этики в системе философии и ее связи с логикой. Теперь мы должны обратить внимание на это место, а именно на первую главу «Основной закон истины», чтобы продолжить наше исследование.
Основной закон истины как высший закон системы является для Коге-на систематическим отношением между логикой и этикой. В этом отношении господствует предшествование логики над этикой, потому что метод чистоты является методом логики и от нее переходит к этике, и не наоборот. Если бы этика не придерживалась метода логики, сообразно с чем «основания являются основополаганиями», то она потеряла бы ценность познания разума. И все же Коген признает также «обратное воздействие» этики на логику, на основе которого метод чистоты впервые достигает полноты метода истины и система познания - законченности системы истины. Истина заключена не в логике и не в этике, а в систематическом
единстве обоих, и инстанция и возможность этого единства предусмотрены этикой: «Таким образом, мы ищем этот метод с самого начала как объединяющий, связывающий этику с логикой. Так, он требует основного закона истины. Это не просто перенос плодотворного в логике метода на этику с тем умыслом, не будет ли и она в нем плодотворно обоснована; но с чем со своей стороны прибегает этика к компетенциям логики, что она предполагает и требует единственности метода для обоих интересов разума. Это предположение осуществляет основной закон истины. Это не перенос, но обратное воздействие, которое здесь проявляется. Это - новый свет, который принцип истины проливает на основной метод логики: что она сама столь же требует этики» (Cohen, 1981, S. 85).
Таким образом, этика доставляет методу чистоты «предпосылку» истины, что значит «взаимосвязь и сочетание теоретической и этической проблем». Это не означает, что логический метод чистоты, метод познания был бы сам не в состоянии принести верные результаты, но скорее то, что этот метод приводится в действие благодаря «притязанию на истину», которое предполагает разум и может быть полностью сформулировано для всей системы только в этике. Логическое значение «принципа» как «петиции» достигает в этике своей завершенности как «притязание на истину». Коген пишет: «Высшими всеохватывающими выражениями для оценки познания остаются в логике всеобщность и необходимость. Мы познали их в их методической ценности: что они означают не последние результаты и установления познания, но скорее предлагают новые образования для новых путей исследования. Они имеют не ценность аксиом и основоположений; но они будут востребованными в качестве высшего положения силлогистического способа доказательства. Какие же имелись бы еще другие выражения для внутренней взаимосвязи и для общей характеристики познавательной ценности? Остаются только виды суждения и категорий как всеобщие основополагания.
Отсюда для логики возникают комические затруднения, если она должна определить истину. Комичность возникает из-за ситуации, в которую логика попадает в результате этого вопроса. Она должна иметь дело с правильностью. И ее последняя остановка есть чистота. Что может означать истина, то совершает внутри логики чистота. Откуда вообще берется притязание на истину в языке разума?» (Cohen, 1981, S. 85).
Коген объясняет эту предпосылку «взаимосвязи и сочетания теоретической и этической проблем» посредством примера общего использования «основного закона непрерывности» (Cohen, 1981, S. 107) в логике и этике. В истине речь идет много более, чем о примере, речь идет о «решительном вопросе» такого сочетания. Как независимость логики от психологии учреждается на отличии мышления от представления, так и независимость этики от психологии учреждается на различии между волей и порывом. Это основополагающее отличие создает «единство поступка» через «основной закон непрерывности». Коген замечает: «Уже при волении обращает на себя внимание почти необозримое множество и разнообразие элементов и образований, которые, кажется, возвращают к инстинктивным движениям. Но так как из этого лабиринта все же приходят к поступку, то препятствия этому здесь только возрастают. К путанице порывов добавляется смесь и лабиринт мыслей и представлений. Как должно при этом прийти к единству поступка, которое все же востребовано; без него не может осуществиться понятие поступка?
Именно здесь мыслезакон непрерывности предоставляет этике свою помощь. И здесь обнаруживается действенность суждения первоначала и таким же образом суждения реальности, его действенность и полезность» (Cohen, 1981, S. 104).
То, что в логике является чистым мышлением, то не остается при бытии как основание, но отсылает к ничто, как методический инструмент для ос-новополагания бытия в мышлении, то есть в этике чистого воления, это то, что «должно быть произведено согласно непрерывности из своего первоначала» (Cohen, 1981, S. 102). В чистом волении движение как сущностный компонент воли и действия не следует понимать в качестве психологических данных, «как внутреннее движение», «как те зародышевые инстинктивные движения», но как «чистые движения», как определение времени, поскольку оно есть «антиципация будущего», как оно проявилось уже в логике.
Это согласование мышления и воли в непрерывности движения является для Когена доказательством для закона истины, что значит для «связи и сочетания теоретической и практической проблемы». Он пишет: «Уже в мышлении зарождается воление... так как в мышлении зарождается движение» (Cohen, 1981, S. 107). Принцип первоначала и непрерывности, который составляет сами методы как предпосылки, показывает то сочетание. Коген замечает по этому поводу: «Мы постигаем время не как преемственность последования, но как проекцию так сказать друг друга. Будущее нам предшествует, прошлое движется следом. В этой антиципации будущего, на которой покоится время, действует теперь также движение и желание.
Но теперь все выглядит одновременно так, что это есть приспособление, в котором метод чистоты переносится с логики на этику. Так как эта чистота, которая обнаруживается в логической характеристике движения, в себе и для себя относится к этике. Это можно было бы хорошенько обдумать. Вид воли становится уже очевидным при этом прояснении вида мышления. Так как это было всегда, что волю, желание отличало от мышления, что оно перед нами словно выскакивает, в то время как мышление спокойно подходит, шаг за шагом. Но теперь видят, что и мышление также прыгает и спешит вперед и в этой спешке и предвосхищении образует ряды и звенья; в этой антиципации оно производит не только свой порядок, но и свое содержание» (Cohen, 1981, S. 106).
Следовательно, из основного закона истины получается, что метод критического мышления как системы не имеет никаких предпосылок, потому что он состоит в процессе предпосылания, так же как и метод чистоты не имеет никакого основания, потому что он состоит в основополагании. Никакая предпосылка не дается разуму или им некритически принимается, но чистый разум, мышление и воля продвигаются вперед через обоснования и предположения.
Относясь критически к Делёзу, следует, таким образом, не только установить, что чистый разум не является представлением, ведь именно так он дистанцируется от редукции к психологии; и не только то, что он не является мышлением идентичности, потому что идентичность - это важный, но не самый важный принцип, так как основополагание мышления следует через принцип первоначала, который, со своей стороны, обосновывает идентичность; более того, необходимо сказать, что он не имеет предпосылок, потому что именно процесс предпосылания для него есть критическая антиципация и не догматическое приятие. Мышление, о котором говорит Делёз, нуждается во «власти», «первичном насилии над мышлением» и «возможности встречи с тем, что принуждает мыслить», чтобы, как порыв,
броситься навстречу безусловному. Напротив, чистое мышление разума приводится в движение само по себе. Ориентация на истину и на благо не является неким приспособлением мышления к мнению большинства, некой ортодоксией, но она есть то притязание разума, которое само уже предстает разумом. Истина - первоначало, благо, цель рационального мышления и философии, не поскольку оба воспринимаются догматически, но поскольку они выступают внутренним мотором критического мышления. Коген пишет: «Она [истина] является не сокровищем, но кладоискателем. Она есть метод, но не изолированный и не изолирующий метод; но такой, который гармонизирует основополагающие различия интересов разума» (Cohen, 1981, S. 91).
При сохранении различия контекста мне кажется, что имеется объективная согласованность между этим методологическим характером рационального процесса предпосылания у Когена и высказанном Кантом «праве потребности разума». Решающим пунктом для Канта является не то, откуда разум получает свои предпосылки в виду безусловного, но факт, что разум их воспринимает как свои предпосылки, то есть не как иллюзорные догматические познания (в этом состоит, по его мнению, ошибка Мендельсона), но как правила ориентации критического мышления. В своем письме Фридриху Генриху Якоби от 30 августа 1789 года Кант пишет: «Может ли теперь быть разбуженным разум, чтобы достичь этого понятия теизма благодаря чему-то, чему учит исключительно история, или только благодаря неисследованному нами, сверхприродному внутреннему развитию, это вопрос, который касается только побочных вещей, а именно процесса возникновения и распространения этой идеи. Можно согласиться с тем, что, если бы Евангелие прежде не научило общим нравственным законам в их целостной чистоте, разум не распознал бы их в таком совершенстве до сегодняшнего дня, несмотря на то, что раз они уже здесь, любой может быть убежден в их верности и действительности благодаря простому разуму» (Kant, AA. Bd. 11, S. 76). Таким образом, для Канта и для Когена «потребность разума» является не случайным поверхностным допущением, которое ограничивалось бы обосновывающейся строгостью разума, но самим моментом разумного мышления, моментом, на основании которого разумное мышление при своем систематическом ориентировании на безусловное признает и одновременно претворяет принятие истины в методической антиципации для познания и действия.
Пер. с немецкого В. Н. Белова
Список литературы
1. Делёз Ж. Различие и повторение. СПб., 1998.
2. Кант И. Критика практического разума // Кант И. Соч. в 4 т. на нем. и рус. яз. М., 1997. Т. 3.
3. Кант И. Что значит ориентироваться в мышлении? // Там же. Т. 1.
4. Poma A. Yearning for Form: Hermann Cohen in Postmodernism // Yearning for Form and Other Essays on Hermann Cohen"s Thought. Springer ; Dordrecht, 2006.
5. Cohen H. Kants Begründung der Ethik // Werke / hg. vom Hermann-CohenArchiv am Philosophischen Seminar der Universität Zürich unter der Leitung von Helmut Holzhey. Hildesheim ; Zürich ; N. Y., 2001. Bd. 2.
6. Cohen H. System der Philosophie. 2. Teil: Ethik des reinen Willens // Werke, zit. Hildesheim ; N. Y., 1981. Bd. 7.
7. Kant I. Briefwechsel. Akademie Ausgabe. Bd. 10, 11.
Андреа Пома - д-р философии, проф. Туринского университета, [email protected]
О переводчике
Владимир Николаевич Белов - д-р филос. наук, проф. кафедры философии культуры и культурологи философского факультета Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, [email protected]
ON THE NATURE OF THINKING WITHOUT PRESENTATION
This article focuses on Deleuze"s attempt to describe so-called thinking of differences, which severs any connection with the premises of natural pre-philosophical thinking and good will tending towards good and truth. The author believes that Deleuze"s thinking of differences does have a rather evident premise. For Deleuze, thinking is an energy flow or sensual "vitality".
Another approach to analysing the fundamentals of thinking can be found in Kant"s article "What Does It Mean to Orient Oneself in Thinking?" where he speaks of the "need of reason". Since the "need of reason" is necessary for the practical interest of reason itself, it directs, according to Kant, not only practical reason, but also general systematic and critical thinking. It is "common sense", as the location of this "need of reason", that can and must be accepted as a valid and rational premise for thinking.
As a follower of the tradition of Kant"s transcendental philosophy, the founder of Marburg School of Neo-Kantianism, develops and deepens insight into the issue in question thus obtaining original and interesting results.
Key words: thinking, initial beginning, need of reason, Deleuze, Kant, Cohen, rationality, difference, theoretical and practical reason.
1. Delez, Ch. 1993, Razlichije i povtorenie . S-Petersburg.
2. Kant, I. 1997, Kritika prakticheskogo razuma . In: I. Kant. Soch. v 4 t. na nem. i russ. jazikach. , Moscow. T. 3.
3. Kant, I. 1993. Chto znachit orientirovat"sja v myshlenii In: I. Kant. Soch. v 4 t. na nem. i russ. jazikach. , Moscow. T. 1.
4. A. Poma, 2006. Yearning for Form: Hermann Cohen in Postmodernism, in ders., Yearning for Form and Other Essays on Hermann Cohen"s Thought, Springer, Dordrecht.
5. H. Cohen, 2001. Kants Begründung der Ethik, in ders., Werke, hg. vom HermannCohen-Archiv am Philosophischen Seminar der Universität Zürich unter der Leitung von Helmut Holzhey, Band 2, Georg Olms Verlag, Hildesheim, Zürich, New York.
6. H. Cohen, 1981. System der Philosophie. 2.Teil: Ethik des reinen Willens, in ders., Werke, zit., Band 7, Georg Olms Verlag, Hildesheim - New York.
7. I. Kant, Briefwechsel, Akademie Ausgabe, Band 10, 11.
About the author
Prof. Dr Andrea Poma, University of Turin, andrea. [email protected]
About the translator
Prof. Vladimir Belov, Department of Philosophy of Culture and Cultural Studies, Faculty of Philosophy, N. G. Chernyshevsky State University of Saratov, [email protected]
Что значит ориентироваться в мышлении?
Как бы далеко мы ни заходили в своих понятиях и как бы мы при этом ни абстрагировались от чувственности, им все же присущи всегда образные представления, непосредственное назначение которых состоит в том, чтобы сделать их, невыводимых обыкновенно из опыта, применимыми к опыту. Да и как иначе мы можем придать им смысл и значение, если не подводить под них какоелибо созерцание (которое всегда будет в конечном счете примером, взятым из возможного опыта)? Если же из этого конкретного умственного действия удалить теперь примесь образного, первоначально как случайного чувственного восприятия, а затем и как чистого чувственного созерцания вообще, то остается чистое рассудочное понятие, объем которого теперь расширен и содержит правило мышления вообще. Таким путем возникла сама общая логика, а некоторые эвристические методы мышления, видимо, все еще скрыты от нас в опытном применении наших рассудка и разума, которые, если бы нам удалось осторожно извлечь их из него, могли бы обогатить философию определенными максимами, полезными даже для абстрактного мышления.
К такого рода максимам относится принцип, о котором покойный Мендельсон заявил определенно, насколько мне известно, только в своих последних сочинениях (Morgenstunden, S.165 - 166, и Briefe an Lessings Freunde, S.3367), а именно максима необходимости ориентироваться в спекулятивном применении разума (которое он обычно считал способным в отношении познания сверхчувственных предметов на очень многое, вплоть до очевидности демонстрации) при помощи некоего руководящего средства, которое он называл то духом солидарности (Gemeinsinn) («Утренние часы»), то здравым разумом, то простым человеческим рассудком («Письма друзьям Лессинга»). Кто бы подумал, что это признание не только окажется столь пагубным для его выгодного мнения о мощи спекулятивного применения разума в делах теологии (что, на самом деле, было неизбежным), но и по причине двусмысленности его противопоставления способности обычного здравого разума спекуляции поставит этот самый разум в опасное положение служить обоснованию экзальтации и полному своему развенчанию? И все же это случилось в споре Мендельсона и Якоби, прежде всего благодаря заключениям остроумного автора «Результатов» , которые [заключения] нельзя назвать незначительными; впрочем, я не хочу никому из двоих приписывать намерение пустить в ход столь пагубный способ мышления, а рассматриваю последнее предприятие скорее как argumentum ad hominem, который имеет право служить самообороне, чтобы использовать слабые стороны противника ему в ущерб. Вместе с тем я покажу, что в действительности только разум, не мнимое таинственное чувство истины и не безмерное созерцание под именем веры, к которым традиция или откровение могут прививаться без согласия разума, а, как стойко и с оправданным рвением утверждал Мендельсон, только собственный чистый человеческий разум будет ориентировать себя. Это он находил нужным и расхваливал, хотя при этом упраздняется высокая претензия спекулятивной способности разума, прежде всего ею одной предлагаемое усмотрение (через демонстрацию), и ей, поскольку она спекулятивна, не должно позволяться ничего большего, чем дело очищения обычного понятия разума от противоречий и защита от ее собственных софистических нападок на максиму здравого разума.
Понятие самоориентации, расширенное и уточненное, позволит нам яснее представить максимы здравого разума в их применении к познанию сверхчувственных предметов.
Ориентироваться - значит в собственном смысле слова следующее: по данной части света (на четыре которых мы делим горизонт) найти остальные, например, восток. Если я вижу на небосводе солнце и знаю, что сейчас полдень, то я смогу найти юг, запад, север и восток. Для этого, однако, мне вполне достаточно чувства различия во мне самом как субъекте, а именно различия левой и правой рук. Я называю это чувством, потому что эти две стороны не имеют в созерцании какоголибо заметного внешнего отличия. Без этой способности описывать круг, не прибегая к какимлибо предметным различиям на нем, тем не менее правильно отличать направление движения слева направо от обратного, а тем самым и определять а priori различие в положении предметов, я не знал бы, следует ли мне искать запад справа или слева от южной точки и тем самым проводить полный круг через северную и восточную точки к южной. Итак, я ориентируюсь географически при всех объективных данных небосвода все же только с помощью субъективного основания различения. И если бы в течение одного дня все созвездия благодаря чуду, сохранив ту же самую форму и то же самое положение относительно друг друга, изменили бы свое направление так, что то, что находилось на востоке, оказалось бы теперь на западе, то в ближайшую звездную ночь ни один человеческий глаз не заметил бы ни малейшего изменения; даже астроном, если бы он принимал во внимание лишь то, что видит, а не то, что одновременно и чувствует, неизбежно был бы дезориентирован. Но на помощь ему приходит совершенно естественно заложенная природой и закрепленная длительным применением способность чувственного различения левой и правой рук, и он, обращая внимание лишь на Полярную звезду, не только обнаружит происшедшее изменение, но и сумеет вопреки ему сориентироваться.
Это географическое понятие метода ориентирования я могу теперь расширить и разуметь под ним следующее: ориентацию в данном пространстве вообще, т.е. чисто математически. Для ориентировки в знакомой комнате в темноте мне достаточно дотронуться рукой хотя бы до одного предмета, местоположение которого я помню. В этом случае мне помогает, очевидно, не что иное, как способность определять положение предметов на субъективной основе различения, так как объекты, местоположение которых мне необходимо найти, мне совсем не видны. И если бы ктолибо в шутку переставил бы все предметы, сохранив их прежний порядок, так, что слева оказалось бы то, что ранее находилось справа, то я совершенно не смог бы ориентироваться в комнате, стены которой в остальном остались бы без изменения. Однако все же вскоре я буду ориентироваться благодаря одному лишь чувству различия двух своих сторон, левой и правой. То же самое произойдет со мной в случае, если я, оказавшись ночью на знакомых мне улицах, на которых я теперь не различаю ни одного дома, должен буду идти по ним и делать надлежащие повороты.
Наконец, я могу еще более расширить данное понятие так, что оно будет теперь состоять в способности ориентироваться не только в пространстве, т.е. математически, но и о мышлении вообще, т.е. логически. Можно по аналогии легко догадаться, что делом чистого разума будет управление своим применением в тех случаях, когда он, отталкиваясь от известных предметов (опыта), захочет перешагнуть все границы опыта и не найдет в созерцании ни одного объекта, а всего лишь пространство для них; в этом случае при определении своей собственной способности суждения он оказывается совершенно не в состоянии подводить свои суждения под какуюлибо максиму, исходя из объективных оснований познания, а исключительно лишь на основе субъективного различения. Данное субъективное средство, выделяющееся в качестве остатка, есть не что иное, как чувство присущей разуму собственной потребности. Избежать заблуждения можно прежде всего тогда, когда не берешься судить там, где неизвестно столь много, сколько необходимо для определяющего суждения. Таким образом, незнание само по себе является причиной лишь ограниченности, но не заблуждения нашего познания. Но там, где решение вопроса о том, судить или не судить о чемлибо со всей определенностью, не столь произвольно, где необходимость суждения диктуется действительной потребностью и к тому же такой, которая присуща самому разуму как таковому, где недостаток знания ставит нам границы во всем том, что необходимо для получения суждения, там необходима максима, руководствуясь которой мы производим суждение, ибо разум должен быть однажды удовлетворен. Выше уже было оговорено, что в данном случае не может быть никакого объекта в созерцании и даже ничего скольконибудь подобного ему, т.е. того, с помощью чего мы могли бы представить предмет, соответствующий нашим расширенным понятиям, и обеспечить им тем самым их реальную возможность. И нам не остается ничего другого, как прежде всего хорошенько проверить то понятие, с помощью которого мы намерены выйти за пределы всякого возможного опыта, свободно ли оно от противоречий. Для этого мы должны, по меньшей мере, подвести отношение предмета к предметам опыта под чистые понятия рассудка, благодаря чему мы его, правда, не делаем еще чувственным, но мыслим все же нечто сверхчувственное, которое пригодно, по крайней мере, для использования его в опытном применении нашего разума. Без подобной предосторожности мы совершенно не в состоянии найти данному понятию применение, а грезили бы, вместо того чтобы мыслить.
Однако одним этим, а именно одним голым понятием, еще ничего не достигнуто в отношении существования этого предмета и его действительной связи с миром (совокупностью всех предметов возможного опыта). Но здесь вступает в силу право потребности разума как субъективного основания предпосылать или предполагать то, что ему не позволено знать, исходя из объективных оснований, следовательно, право ориентироваться в мышлении, в этом неизмеримом и покрытом для нас сплошным мраком пространстве сверхчувственного, только в силу своей собственной потребности.
Можно мыслить различное сверхчувственное (ведь предметы чувств не заполняют полностью всей сферы возможного), где разум, однако, не испытывает потребности распространиться на него и менее всего предполагает его существование. Разум находит в причинах мира, открывающихся чувствам (или сходных с теми, которые им открываются), и без того достаточно пищи, чтобы еще нуждаться в воздействии на него чистых духовных природных сущностей, принятие которых, скорее всего, отрицательно сказалось бы на его применении. И так как о законах, по которым могут действовать подобные сущности, мы ничего не знаем, а о законах предметов чувств знаем много или, по крайней мере, можем надеяться, что узнаем еще, то таким предположением применению разума будет нанесен, скорее, ущерб. Следовательно, играть подобными химерами или исследовать их - вовсе не потребность разума, а, скорее, простое, чреватое фантазией, праздное любопытство. Совсем иначе обстоит дело с понятием первого существа как высшего разума и одновременно как высшего блага. Ибо мало того, что наш разум уже испытывает потребность положить понятие неограниченного в основание всего ограниченного и вместе с этим всех других вещей; он идет дальше к предположению о его существовании, без которого разум не в состоянии дать удовлетворительного объяснения случайному бытию вещей в мире и менее всего целесообразности и порядку, встречающимся в достойной восхищения степени повсюду (в малом, потому что оно ближе к нам, но еще в больше степени в большом). Без предположения о разумном творце нельзя дать этому понятного объяснения, не впадая в сплошные нелепости. И хотя мы не можем доказать невозможность такой целесообразности без первой разумной причины (ведь в таком случае мы располагали бы достаточными объективными основаниями для этого утверждения и не нуждались бы в ссылке на субъективные), все же для принятия этой точки зрения при всех ее недостатках есть достаточно субъективного основания в том, что разум нуждается предполагать то, что ему понятно, дабы объяснить данное явление из него, так как все остальное, с чем он может связывать какоелибо понятие, не удовлетворяет эту потребность.